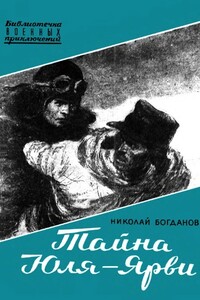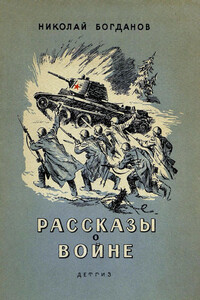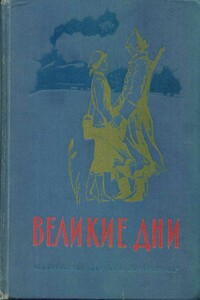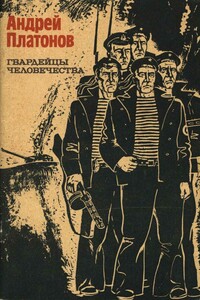— Мы вас за бандитов приняли!
— А мы вас.
— Эх, братцы, — сказал красноармеец, — вот так-то нас провокация и путает, как бес православных. Антанта нам гадит… Точно. Уж я-то проделки мировой буржуазии знаю!
— Это вестимо, — подтвердил бойкий старичок, облизывая обожженные спиртом губы, — как же им нас не стравливать, — была вот эта богатства, лес весь этот, и плотбище, и завод лесопильный катыховский, а теперь обчий, значит. Вот я этот лес сплотил, на завод доставил, а приеду, мне с завода тесу на крышу, пож-жалте! Мы, значит, вам, вы, значит, рабочие, нам. А Катыхову чего? Фига… Так что, ребята, вставляй побитые окошки… Латай самовар! А серчать нечего.
— Чего там, давай за один стол. У нас тут кой-чего в кошелях еще осталось!
Но мы за восстановленный стол не сели — торопились обратно. К последнему вальсу. Только попросили у сторожа пару тулупов из казенного имущества. Накрылись ими, а то сильно прозябли, и всю дорогу шептались и фыркали.
Как вспомним какую-нибудь подробность нашего побоища с плотовщиками, так уткнемся в шерсть тулупа и фыркаем. Громко смеяться не могли, не хотелось обижать Ваню, попавшего впросак.
Сдавалось нам, что всю эту чепуху подстроили интеллигентные девчонки, отослав нас подальше, чтобы всласть натанцеваться. А кроме того, желали осмеять комсомольцев, гордившихся боями-походами против бандитов.
Главный герой происшествия сидел молча, привалившись к могучей спине Савоськина, и всю дорогу о чем-то думал, ни с кем не делясь.
Ехали мы теперь торной дорогой, проложенной от плотбища к лесозаводу. Застоявшиеся кони бежали резво. Вскоре показались трубы, цеха лесопилки, а за ними и огни города. «Ого, мы, кажется, к последнему вальсу поспеем». Я толкнул в бок красноармейца. Ваня встрепенулся, завидев завод, тихо, мирно стоявший на месте.
Значит, ничего-то с ним не случилось, пока мы на часок-другой сняли охрану.
И вдруг на повороте, где нам с заводскими ребятами нужно прощаться, новое происшествие. Девчонка. В мамкиной теплой шали и босая.
— Дяденьки! — закричала она, стуча озябшими ногами. — Дяденьки миленькие, мамоньку убивают…
— Стоп! — осадил Савоськин коней. — Да ведь это директорской стряпухи сиротка!
Подхватив девчонку, он развернул весь наш обоз к директорскому особняку.
Заезжаем во двор — тихо, пусто, ворота открыты, как, при покойнике. И сени не заперты…
Выскочили мы из саней, не сговариваясь, и сразу в дом. Видим, двери в комнаты приоткрыты.
— Эй, хозяева! — крикнул Ваня, не решаясь войти без стука.
Молчание. И вдруг кто-то застонал.
— Стой, не напороться бы на засаду! — сказал красноармеец и засветил свой фонарик.
Мы попятились: к нам ползла охотничья собака, волоча перебитые ноги. На глазах ее были слезы.
Сердце у нас заныло, почуяв беду. Раскрыв пошире дверь дулом маузера, Ваня скомандовал:
— За мной!
Свет фонарика выхватывал страшные картины. Инженер со связанными руками стоял на коленях. Рядом ломик-фомка весь в крови. Дочка в крови с размозженной головой и рядом — утюг. Жена его на полу в одной рубашке, с подсвечником в руке. Серьги блеснули в ушах. Перстни на пальцах.
Старушка кухарка была убита на кухне тяжелым колуном.
Мы обходили дом тихо, безмолвно. Собака ползала за нами, скуля.
— Да пристрелите вы ее, мочи нет! — попросил Ваня, прижимая к груди маузер. Лицо его исказилось нестерпимой болью.
Никто не поднял оружия на несчастную собаку. Мы стояли потупив глаза, склонив головы, как виноватые. Не уберегли! Давно ведь знали, что директору грозили наши враги смертью, если будет он и впредь честно работать на Советскую власть. Предупреждал нас старший товарищ Климаков, чтобы мы за заводом присматривали. А нас вон куда понесло! Пугать пьяных плотовщиков на плотбище…
Обмануты. Опозорены. Жестокий стыд перед убитыми терзал нас.
— Политическая месть! — сказал красноармеец, гася фонарик. — Никаких следов грабежа.
— Вон и сапоги охотничьи, — указал Акимка, из худых ботинок которого текла вода, — вон и охотничье ружье на стене…
— Харчи все целы! — пробасил Савоськин, обследовавший кладовку. Окорока висят, гуси… Только вот спирту не вижу. У директора в кабинете всегда стоял бидончик. Берег пуще золота…
— Наверное, рассчитался за сплотку плотов этим спиртом.
— Похоже, — согласился Савоськин.
Так мы тянули время, не зная, что делать. После каждого слова наступало тяжкое молчание.
— Ты их не запомнила? Может, угадаешь, — спрашивал красноармеец девчурку, — какие они были?
— Страшные… — плакала девчонка.
— А все-таки я их найду, — скрипнул зубами Ваня, — вот святая истина, найду! — И он перекрестился маузером, крепко стукая себя по лбу. — По коням! — скомандовал он и выбежал на крыльцо.
Мы попрыгали в сани. Замешкался лишь Савоськин. Переваливаясь, спустился с крыльца. В руке он держал надкусанный соленый огурец.
— Добрые огурчики директорская Марья готовила, с чесночком, с хренком, с перчиком, со смородиновым листочком… Царствие ей небесное…
— Да ты что, дед, в такую минуту огурцы вдруг… — сказал красноармеец возмущенно.
— Вот то-то и оно — что за бандиты здесь были: злато-серебро не тронуто, а огурчики початы…
Савоськин натянул вожжи, и кони заплясали…