Вчера, позавчера… - [158]
— А меня все упрекают мои коллеги, что, мол, это подражание французам и все неинтересно. Общее мнение Союза художников!
— Какое же дурачье, однако же, все эти ваши коллеги. Злое, вредное дурачье! Да тут все русское… и эти сумерки… Вы знаете, во Франции ведь нет сумерек, этих чеховско-левитановских сумерек… А в них-то вот вся изюминка! Ну, да русский «злой глазок». Он тоже чего-то стоит…
— Да! Когда-то во Франции все это чувствовали, умели замечать, умели подсмотреть… Да теперь-то всего этого и в помине нет.
— Климат переменился и хотели бы, хотели бы сделать хотя бы один лист этого «Кусково», но все иссякло! Уже не могут. Ну, а у нас еще могут… Это очень, очень хорошо! Спасибо! Спасибо, что занесли мне эти прекрасные листы.
Мы вышли на Дмитровку, прошли мимо театра, который он описал в своем «Хождении по мукам», миновали чудесную церковку «в Путниках», прошли мимо забора Страстного монастыря и двинулись к памятнику Пушкина.
Толстой был в ударе, оживлен, разгорячен завтраком, «цепной реакцией» воспоминаний о Париже.
— Вы знаете, в эти годы, которые у меня описаны в «Черном золоте», Париж был неповторим. Человечество после войны как с цепи сорвалось… оно было ненасытно! Наслаждений! Наслаждений, всех, всех, которые только возможны, которые только можно достать, придумать, изведать… И над всем этим противный, сладковатый до омерзения запах разлагающихся трупов! Это на ближних полях, примыкающих к Парижу, догнивают неубранные, не найденные несчастные французские и русские солдатики, «пуалю»! Некогда! Некогда их убирать! Давайте целоваться!
Импровизации его были великолепны. И, как странно, описывая эти чудовищные и блестящие годы Парижа, он ни словом не обмолвился о «Детстве Никиты», а именно в те дни, напоенные трупным запахом, и были описаны и русские мальчики, и сугробы, и лунные ночи с волками, и бумажные цепи и звезды для рождественской елки. Он как бы целомудренно оберегал эту тему… Он шагал широкими шагами по бульвару в широком пальто. Образы, сравнения «выливались», «выхлестывались» из него потоком… Какой талантливый человек! Этот уж не высиживает, не высасывает свои образы из пальца.
— Фу! Черт возьми! — внезапно прервал он себя. — Устал! С каким бы я наслаждением сейчас заснул… эдак часика на два, «по-самарски»! А вот тащусь теперь на этот третейский писательский суд! Не успел в Москве появиться, как на другой день сейчас же меня в председатели суда выдвинули. Там они все в этом Доме Герцена перессорились, перегрызли друг друга, по трешнице занимают, потом, конечно, не отдают, друг друга подлецами обзывают… А теперь вот тащись после обеда вместо того, чтобы вздремнуть… Разбирай тут, кто прав, кто виноват, распутывай литераторские дрязги! Но надо тащиться, а то подумают, что зазнался. Беда! Там этот Осип Мандельштам у кого-то трешницу занял и не отдал, или наоборот… Ну, а впрочем, сейчас увидим. Вы пойдете? Или вам некогда? Но зато я предпочитаю вас Ц.
Уменье приспосабливаться к человеку иного склада, иной культуры, человеку скорее административно-коммерческому, а не художественному… Ну, это не для всех!
Какая хватка! И какое виртуозное чувство «уровня воды». Пожалуй, когда-то за это чутье «уровня воды» презирать будут, руки не подадут.
Я вырос среди коренной, «густопсовой» и чистопородной русской радикальной интеллигенции. В России был свой особый, нигде, кажется, в мире неповторимый «пуританизм». Религиозные фанатики «свободы» и непоколебимые борцы против деспотизма и мракобесия. Эти слова я слышал чуть не с пяти лет… Деспотизм звучал странно и непонятно, но слово мракобесие меня восхищало, будило какие-то фантастические картины черных теней, бегающих в некоем танце, точно с фонарем идешь ночью между стволов яблонь… Этот непоколебимый «пуританизм» и «честность» шли от Герцена, Чернышевского, сотрудников некрасовского «Современника». Процесс ста девяноста трех! Я видел в детстве их представителей. Десятилетним мальчиком носил по утрам в Женеве русские газеты Феликсу Волховскому, другу Желябова и Софьи Перовской… Сам Клеменс, зачинщик «хождения в народ», сидя в кресле на даче с видом на Монблан, возложил мне свою руку на голову и вымолвил: «Какой счастливый мальчик, он будет жить в Русской Республике!» Сидевшие на террасе благоговейно замерли… Почувствовали торжественность момента! Я знал с детства эту породу людей. Шишко, который написал в семидесятых годах «народный листок» «Чтой-то, братцы, плохо живется на святой Руси», бывал часто у родителей в маленькой квартире матери на Рю де Каруж. Прочтите воспоминания шлиссельбуржца Морозова. Он их всех описывает молодыми людьми. Я видел их стариками, все еще сохранивших выправку артиллерийских офицеров Николая Палкина. Несгибаемые революционеры без чувства «уровня воды».
Семья Алексея Николаевича в Самаре была не классическая «графская». Положение его было ложное. Толстые его не принимали. Ко гробу его отца мать и маленького Алешу не допустили… Братья, гвардейские уланы и гусары, с ним не разговаривали и не раскланивались. Графства-то набраться было не у кого… и «царедворства» тоже!

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
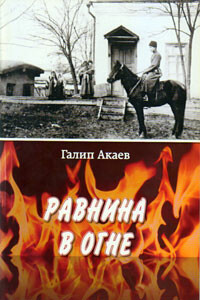
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.