Васька - [3]
II
Коноплев принялся за порученное ему дело с таким увлечением, какого никогда не проявлял в корабельных работах. Те он исполнял хотя и старательно, но совершенно безучастно, с покорностью подневольного человека и с автоматичностью машины. А в эту он вкладывал душу, и потому эта работа казалась ему и приятна и легка.
И сам он переменился. Обыкновенно скучавший и несколько вялый, он стал вдруг необыкновенно деятелен, весело озабочен около своих «пассажиров» и, казалось, забыл на время и постылость морской службы, и страх перед нелюбимым им океаном. Одним словом, этот неудавшийся матрос ожил, как оживает человек, внезапно нашедший смысл жизни.
С первого же дня, как на «Казаке» были водворены все «пассажиры», Коноплев возбудил общее удивление своим уменьем обращаться с животными, товарищески любовным к ним отношением и какою-то особенною способностью понимать их и даже разговаривать с ними, точно в нем самом было что-то родственное и близкое животным, которых он пестовал с любовью и лаской. И они, казалось, понимали его, не боялись, слушались и словно бы считали немного своим.
Но особенное изумление матросов вызвано было при первом знакомстве Коноплева с одним неспокойным и сердитым быком.
Это был самый буйный из всех трех, привезенных на клипер. Небольшой, но сильный, черный и косматый, он отчаянно и сердито мычал, когда его, связанного по ногам, поднимали с баркаса на палубу. Не успокоился он и тогда, когда его привязали толстой веревкой к бортовому кольцу и освободили от пут. Он чуть было не боднул возившихся около него и успевших отскочить матросов и продолжал злобно мычать на новоселье. При этом он рвался с веревки, нетерпеливо бил копытами по деревянной настилке и грозно, с налитыми кровью глазами помавал своею рогатою головой.
Он наводил страх. Никто не осмеливался к нему подойти, боясь быть вскинутым на его изогнутые острые рога.
Занятые интересным и редким на судне зрелищем, матросы толпились в почтительном отдалении от сердитого быка и перекидывались на его счет остротами и шутками.
— И сердитый же у нас, братцы, пассажир. Около его теперь и не пройти. Забодает!
— Ходу ему не дадут. Первого зарежут! Не бунтуй на военном судне.
— Видно, в первый раз в море идет, оттого и бунтует.
— Чует, поди, что к нам в щи попадет, сердится.
— В море усмирится.
— Небось его сам боцман не усмирит, потому линьком его не выучишь. Не матрос!
Это замечание вызывает в толпе смех. Не без удовольствия улыбается и боцман, довольный столь лестным о нем мнением.
— И как только Коноплев будет ходить за этим чертом! Страшное это, братцы, дело связаться с таким пассажиром… Будет Коноплеву с им хлопот! — участливо заметил кто-то.
И многие пожалели Коноплева. Как бы ему не досталось от сердитого быка!
— Небось не достанется, братцы… Я умирю его! — проговорил вдруг своим спокойным и приветным голосом Коноплев, пробираясь через толпу с другой стороны бака.
Там он только что навестил других двух быков, привязанных отдельно от беспокойного. Они тоже мычали, видимо, еще не освоившись с новым положением, но в их мычании слышались покорные, грустные звуки, похожие на жалобу.
Коноплев гладил их морды, чесал им спины, что-то говорил им тихим, ласковым голосом, указал на корм и скоро их успокоил.
— Он, братцы, сердится, что его с родной стороны взяли, — продолжал Коноплев, проталкиваясь вперед, — тоску свою, значит, по своему месту сердцем оказывает. А бояться его нечего, быка-то. Он — добрая животная, и если ты с им лаской, не забидит…
С этими словами он ровною, спокойною походкой, слегка переваливаясь и не ускоряя шага, направился к бунтующему быку.
Матросы так и ахнули. Все думали, что Коноплеву будет беда. Никто не ожидал, что такой трусливый по флотской части матрос решится идти к бешеному зверю.
Боцман Якубенков испуганно крикнул:
— Назад! На рога, что ли, хочешь, дурья твоя башка!
Но Коноплев уже вступил на широкую деревянную настилку, на которой головой к нему стоял зверь, готовый, по-видимому, принять на рога непрошеного гостя.
Глядя прямо быку в глаза, Коноплев подошел к нему и фамильярно стал трепать его по морде и тихо и ласково говорил, точно перед ним был человек:
— А ты, голубчик, не бунтуй. Не бунтуй, братец ты мой. Нехорошо… Всякому своя доля… Ничего не поделаешь… Всё, братец ты мой, от господа бога… И человеку, и зверю…
Видимо озадаченный, бык мгновенно притих, точно загипнотизированный. Склонив голову, он позволил себя ласкать, словно бы в этой ласке и в этом доброжелательном голосе вспоминал что-то обычное, знакомое.
И Коноплев, продолжая говорить все те же слова, чесал быка за ухом, под горлом, и бык не противился и только мордой обнюхивал Коноплева, как будто решил ближе с ним познакомиться.
Тогда Коноплев захватил пук свежей травы, лежавшей в углу, вблизи сена, на настилке, и поднес ее быку.
Сперва бык нерешительно покосился на траву, жадно раздувая ноздри. Но затем осторожно взял ее, касаясь шершавым языком руки Коноплева, и медленно стал жевать, подсапывая носом.
— Небось скусная родимая травка! Ешь на здоровье. Тут и еще она есть… и сенца есть… Кантуй на здоровье. Ужо напою тебя, а завтра свежего корма принесу… А пока что прощай… Так-то оно лучше, ежели не бунтовать… Ничего не поделаешь!

Герои рассказов К. М. Станюковича – матросы и офицеры, умеющие побеждать опасности и выходить с честью из труднейших положений.Для среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
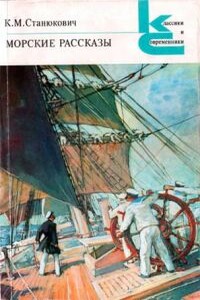
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
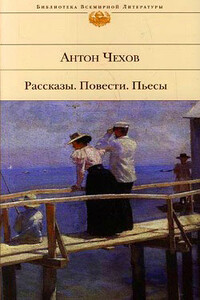
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
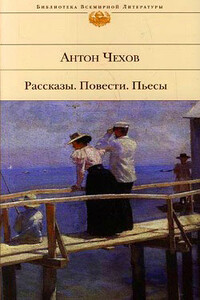
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
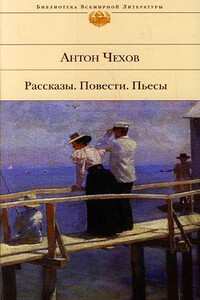
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
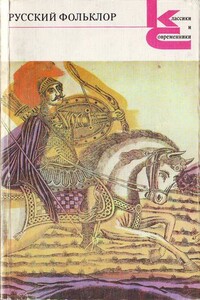
В книгу вошли наиболее известные и популярные образцы русского устного народного творчества, публиковавшиеся в разное время в сборниках известных учёных-фольклористов XIX–XX вв.
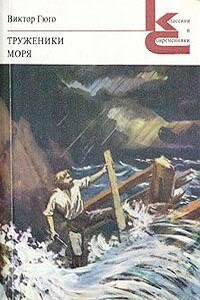
Роман французского писателя Виктора Гюго «Труженики моря» рассказывает о тяжелом труде простых рыбаков, воспевает героическую борьбу человека с силами природы.

Роман советского писателя, лауреата Ленинской премии М.Г. Маркова повествует о жизни сибирских крестьян в дореволюционную эпоху, о классовом расслоении деревни, о событиях в период Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири.

Роман Кена Кизи (1935–2001) «Над кукушкиным гнездом» уже четыре десятилетия остается бестселлером. Только в США его тираж превысил 10 миллионов экземпляров. Роман переведен на многие языки мира. Это просто чудесная книга, рассказанная глазами немого и безумного индейца, живущего, как и все остальные герои, в психиатрической больнице.Не менее знаменитым, чем книга, стал кинофильм, снятый Милошем Форманом, награжденный пятью Оскарами.