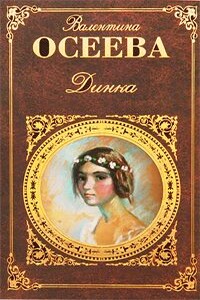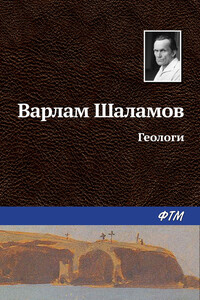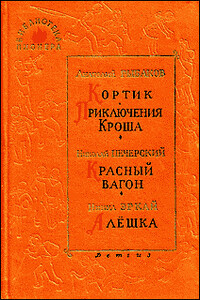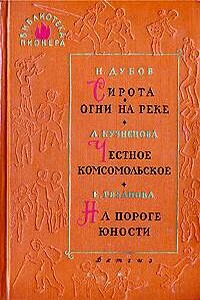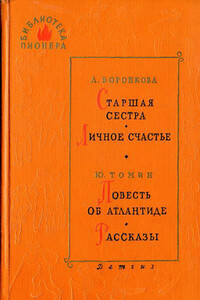«Если сказать Мазину, он скажет Трубачеву. А может, даже заставит сознаться перед всеми. Да еще трусом назовет и презирать меня будет. А на сборе, когда все узнают, скажут: чего молчал? И начнут прорабатывать… А там еще отца в школу вызовут… и отец…»
Петя похолодел. Щепка с размокшей бумагой давно уплыла с мутной, серой водой.
«Если бы отец выпорол где-нибудь… не дома, чтобы она не знала…»
Петя вспомнил ясные серые глаза Екатерины Алексеевны, их сегодняшний разговор об уроках, о Мазине.
Он вдруг представил себе, как она надевает свою шубку, повязывает пушистый платок и, не оглядываясь, бежит к двери.
И он, Петя, опять остается один на всю жизнь…
— Ты что в самую лужу залез? Вот мать тебе покажет за это! — проходя мимо, сказала какая-то женщина.
Петя пошел домой.
— Постой, у тебя в калошах вода хлюпает. Сними их в кухне. И ботинки сними, — сказала мачеха. — Да где ты болтался? На, мои шлепанцы надень! — Она бросила ему войлочные туфли и строго сказала: — Это не дело, Петя, так насмерть простудиться можно!
— А кому я нужен? — улыбнулся Петя.
— Такой глупый никому не нужен, — сказала Екатерина Алексеевна, присаживаясь с ним рядом и стаскивая с его ноги мокрый чулок. — А вообще никогда не смей так говорить! Не обижай папу и меня.
— Я не буду! — сказал Петя и тут же решил никогда, ни за что не сознаваться в своем поступке. Что бы ни было!
Глава 29
Надо посоветоваться
На тихой улице в маленьком домике с тремя окошками всегда далеко за полночь светился огонь. Люди, идущие на ночную смену, привыкли к этому огоньку, как привыкают к обычному уличному освещению. А когда огонь погасал, какая-нибудь соседка, зевая, говорила:
— Учитель свет погасил. Видно, дело к рассвету.
Сергей Николаевич сидел за своим письменным столом. Сбоку лежала горка журналов; под тяжестью книг сгибались полки; из портфеля выглядывала стопка тетрадей. Толстая книга с несколькими закладками лежала перед ним. Он медленно перелистывал ее, отмечая карандашом какие-то строчки, и, положив подбородок на скрещенные пальцы, думал.
Учитель учился.
Рядом, в маленькой комнатке, спал его старик-отец. Седая голова его покоилась в теплой ямке подушки, одеяло со всех сторон было заботливо подвернуто.
Было часов одиннадцать. Под окнами еще слышались шаги прохожих и обрывки фраз, когда Сергей Николаевич сел за свой письменный стол. Он перевернул несколько страниц книги своего любимого педагога Ушинского, отложил книгу в сторону и долго сидел задумавшись.
«Готовых рецептов, видно, нет. В каждом отдельном случае свои причины и вытекающие из них действия… Правильное решение зависит от правильного понимания ребенка…»
Думая так, Сергей Николаевич машинально ставил на листе бумаги какие-то черточки, потом так же машинально написал три фамилии: Трубачев, Одинцов, Булгаков. Осторожно соединил их стрелками, потом зачеркнул Трубачева и поставил его отдельно. И, откинувшись в кресло, устало моргая и морща лоб, он стал решать про себя какую-то трудную задачу. Ответ на нее напрашивался простой: рассердился на статью и зачеркнул свою фамилию. Но этот ответ не удовлетворял учителя. Подавленный вид Трубачева тоже ни в чем не убеждал его.
— Нет, это не так просто… не так просто, — тихо говорил он себе, вспоминая Трубачева другим: с открытыми, смелыми глазами, с горящим, огненным чубом на загорелом лбу. Сергей Николаевич, ловил себя на особой симпатии к этому ученику. — Может, я невольно пытаюсь оправдать его, потому что он мне симпатичен больше других?
Лицо его стало строгим. Во всяком случае, мальчишке не хватает дисциплины. Ушел из класса, ушел с редколлегии.
Учитель нахмурился и протянул руку к стопке тетрадей. На одной из них было старательно выведено: «В. Трубачев». Тем же почерком чисто и старательно написаны целые страницы. Сергей Николаевич улыбнулся. Ему почему-то представилось, что когда Трубачев пишет, то обязательно высовывает кончик языка и болтает под столом ногой. И все же отличник… Самолюбивый. Умеет заставить себя заниматься. Пользуется авторитетом в классе. Выбран председателем совета отряда…
Мысли учителя снова возвращались к классной газете и зачеркнутой фамилии.
«Может, именно поэтому и сорвался, что самолюбив и горд? А может, это сделал кто-нибудь другой, например Одинцов, не выдержавший роли беспристрастного редактора?..»
Сергей Николаевич вспомнил Одинцова. Нет, бледный и расстроенный Одинцов не считал себя виноватым. В нем чувствовалось сознание своей правоты, несмотря ни на что… Булгаков?
Учитель тепло улыбнулся:
«Этот весь — раскрытая книга. Простая, искренняя душа. Все написано на его доброй, круглой физиономии».
В соседней комнате тихо и уютно тикали ходики. Они почему-то напоминали домовитого сверчка под теплой печкой.
Сергей Николаевич прислушался к дыханию отца.
«Надо бы чаще гулять ему, — озабоченно подумал он. — Если бы мне выкроить время как-нибудь после уроков и куда-нибудь пойти с ним».
Он вынул из кармана записную книжечку. Родительское собрание… Педсовет… Методическое совещание… Партийное собрание. Скоро учительская конференция.
Он закрыл книжечку и глубоко вздохнул: «Нет, гулять не придется. А эти дни вообще все заняты… Прежде всего трубачевскую историю надо распутать».