В тяжкую пору - [4]
— На провокации не поддаваться, по германским самолетам огонь не открывать. Ждать приказа.
И именно в этот момент до нашего слуха донесся тяжелый, прерывисто-надрывный гул моторов.
Все выскочили на улицу. Уже рассветало. «Двадцать второе июня, самый длинный день», — мелькнуло в сознании.
Поднималось солнце, и навстречу ему летели тяжело груженные бомбардировщики Гитлера. Они развернулись над городом и пошли на снижение. Кресты на крыльях, известные нам по альбомам опознавательных знаков и схемам, были видны простым глазом. Видны были и черные точки, отрывавшиеся от самолетов.
Бомбили прицельно: железнодорожную станцию, подъездные пути, нефтеперегонный завод и наши казармы. (Фашистская разведка не знала, что они опустели несколько дней назад). Отбомбившись, не спеша сделали круг над городом. Чего им было спешить — ни одного нашего истребителя, ни одного выстрела зениток!
За первой волной вражеских самолетов появилась вторая. Теперь бомбардировке подвергся центр города, кварталы, где жили командирские семьи.
Рябышев схватил меня за руку:
— Пойдем!
На ходу бросил оперативному дежурному:
— Соединить с зенитной бригадой.
Закрыл за собой дверь кабинета и, не говоря ни слова, посмотрел мне в глаза. Мы уже были знакомы больше года. Отношения между нами определялись короткой и емкой формулой: душа в душу. Нам не нужно было долго объясняться.
Я молча кивнул головой. Рябышев положил руку на трубку, секунду помедлил и подал команду:
— Открыть огонь по самолетам противника.
Мы замерли у окна, напряженно прислушиваясь. В грохот бомб вклинились разрывы зениток. И только тут для нас стало совершенно ясно: началась война!
Бомбежка продолжалась сравнительно недолго. Наша зенитная артиллерия пришлась, видно, не по вкусу немецким летчикам (потом выяснилось, что, хотя зенитчики стреляли не особенно удачно, четыре самолета они все же сбили).
Мы с Рябышевым вышли в коридор. Здесь стояли командиры и политработники управления корпуса, которые всего лишь несколько минут назад невесело перешучивались по поводу еще одной ночной тревоги, испортившей воскресный день. Теперь они молчали, сосредоточенные, взволнованные, суровые. Смотрели на меня и Рябышева, ждали нашего слова. Но мы знали примерно столько же, сколько и они. У нас даже приказа не было.
Однако я почувствовал, что должен, обязан сказать им хотя бы несколько слов от имени партии, которой они беззаветно верили, к которой обращались с надеждой и упованием. У меня не было времени на то, чтобы собраться с мыслями. Но я был подготовлен к этой речи всей своей жизнью армейского коммуниста, с молодых лет усвоившего, что империализм никогда не примирится с потерей одной шестой земной тверди, что фашизм был и остался самым яростным врагом моей социалистической Родины.
Только я кончил, ко мне наклонился оперативный дежурный и шепотом доложил:
— Звонила ваша дочь. Говорит, неподалеку от них упала бомба. Я объяснил ей, что это маневры.
Ничего не оставалось, как поблагодарить капитана за наивную и бессмысленную ложь.
Все мы были охвачены в тот момент тревогой за семьи. И очень скоро семьи сами заявили о себе.
По снова ставшим тихими утренним улицам, окутанным пылью и дымом недавней бомбежки, бежали женщины, старики, ребятишки. Едва одетые, многие в ночных рубашках, окровавленные, обезумевшие от неожиданного бомбового грохота, они устремились к штабу.
Я с трудом узнал в толпе Надежду Савельевну Крестовскую — жену военинженера 3 ранга. На вечерах самодеятельности, она, красивая, знающая себе цену, в платье до пола, легко и уверенно взбегала на сцену, кивала старшине-аккомпаниатору и пела алябьевского «Соловья»… Теперь Надежда Савельевна была растрепана, из-под халата торчала рубашка, на руках у нее полуголая девочка лет трех с откинутой назад черноволосой головкой. Я тихо спросил:
— Ранена?
— Убита.
Кровь детей и женщин — первая кровь, какую я увидел в эту войну…
Надо было немедленно организовать помощь. Поручил секретарю парткомиссии старшему батальонному комиссару Погодину и инструктору отдела политической пропаганды стар шему политруку Сорокину заняться командирскими семьями. Для потерявших кров решили устроить общежитие в Доме Красной Армии. Раненых направили в госпиталь.
Но каждое дело — для нас это было пока что непривычно — наталкивалось на сотни непредвиденных препятствий. Госпиталь, оказывается, сам пострадал от бомбежки. Среди больных и персонала — раненые, убитые.
А к штабу все подходили и подходили женщины. То один, то другой командир выскакивал на улицу…
Связь штаба с дивизиями и отдельными частями была нарушена — фашистские бомбы порвали телефонные и телеграфные провода. Послали нарочных. И тут выяснилось, что вокруг Дрогобыча, а также в самом городе орудуют гитлеровские парашютисты, переодетые в красноармейскую форму.
Вскоре начальник разведки корпуса майор Оксен доложил, что несколько таких диверсантов поймано.
— Я поинтересовался, — сообщил Оксен, — что они знают о нашем корпусе. Оказывается, немало. Можно ждать любых провокаций. Надо, чтобы люди имели это в виду.
К словам Оксена, опытного разведчика, в прошлом питерского рабочего, я привык прислушиваться.
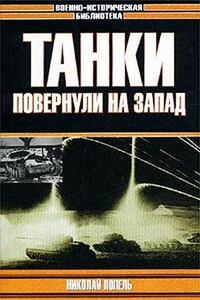
Переизданные в последнее время мемуары германских военачальников, восполнив многие пробелы в советской историографии, создали определенный перекос в общественном представлении о Второй мировой войне. Настало время уравновесить чаши весов. Это первая из серии книг, излагающих «советский» взгляд на события, о которых писали Манштейн, Гудериан, Меллентин, Типпельскирх. В известном смысле комиссара Н. Попеля можно считать «советским Меллентином». Оба прошли войну с первого и до последнего дня, оба воевали в танковых воисках и принимали участие в самых ярких и запоминающихся операциях своих армий.
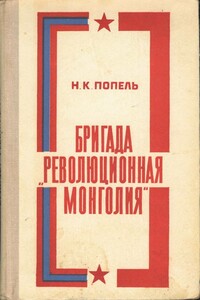
Автор — генерал-лейтенант в отставке Николай Кириллович Попель — рассказывает о подвигах и героизме солдат, сержантов и офицеров 44-й гвардейской танковой бригады «Революционная Монголия» в Великой Отечественной войне, о братской интернациональной дружбе советского и монгольского народов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
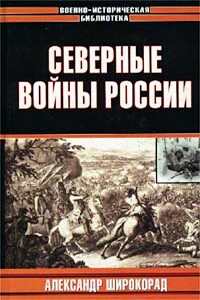
Северные войны России происходили в течение семи веков. Начало им положила Невская битва со шведами в 1240 году, завершила их победа над финнами в 1944 году. Автор книги использовал немало источников, ранее не известных отечественным историкам либо отвергавшихся ими по причинам идеологического характера. Многие его суждения опровергают привычные штампы и популярные мифы, дают иную оценку событиям далекого и недавнего прошлого. Книга легко читается, заставляет думать, сравнивать, спорить.
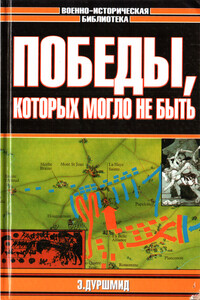
Лошадь захромала — командир убит, Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, Оттого, что в кузнице не было гвоздя. Старый английский стишок, переведенный С.Я. Маршаком, знаком всем нам с самого детства. Вы полагаете, такое бывает только в стихах? Однако будь у французских кавалеристов два десятка обычных гвоздей, чтобы заклепать английские пушки, Наполеон не проиграл бы битву при Ватерлоо. История, в особенности история военная, сплошь и рядом насмехается над всеми объективными факторами и законами. Автор этой книги, военный корреспондент Би-би-си и Си-би-эс, собрал целую коллекцию «побед, которых могло не быть». Так как же все-таки слепой случай и глупость меняли историю?..
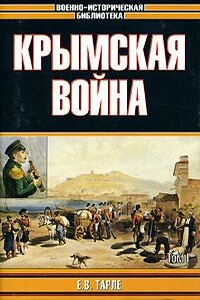
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Фундаментальный труд о Крымской войне. Использовав огромный архивный и печатный материал, автор показал сложный клубок международных противоречий, который сложился в Европе и Малой Азии к середине XIX века. Приводя доказательства агрессивности планов западных держав и России на Ближнем Востоке, историк рассмотрел их экономические позиции в этом районе, отмечая решительное расхождение интересов, в первую очередь, Англии и Австрии с политикой России. В труде Тарле детально выяснена закулисная дипломатическая борьба враждующих сторон, из которой Англия и Франция вышли победителями.
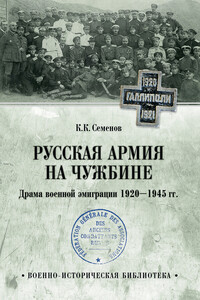
Новая книга К. К. Семенова «Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920–1945 гг.» рассказывает о трагической истории наших соотечественников, отправившихся в вынужденное изгнание после Гражданской войны в России. Используя многочисленные архивные документы, автор показывает историю русских солдат и офицеров, оказавшихся в 1920-е годы в эмиграции. В центре внимания как различные воинские организации в Европе, так и отдельные личности Русского зарубежья. Наряду с описанием повседневной жизни военной эмиграции автор разбирает различные структурные преобразования в ее среде, исследует участие в локальных европейских военных конфликтах и Второй мировой войне. Издание приурочено к 95-летию со дня создания крупнейшей воинской организации Русского зарубежья – Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). Монография подготовлена на основе документов Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Архива ГБУК г.