В тупике - [14]
– Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане… Пойдем, покажи дачку.
Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.
– Отчего ты хромаешь?
– Так… Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.
Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.
– А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал… Ленька, что-то тут…
Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.
– Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи…
Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убегавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.
Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.
– Славная дачка! – В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. – Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.
– А вы скоро будете здесь?
– Недельки через две, не позже.
Катя жадно спросила:
– Встречал ты за это время Веру?
– Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в женотделе. Чудесная работница. – Он насмешливо улыбнулся. – А дядя к ней по-прежнему?
Катя грустно ответила:
– По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее, сейчас же у него делается такое беспощадное лицо… Расскажи подробно, – что она, как?
После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.
Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:
– Ну, что? Как дела у вас? По-старому, – арестовываете, расстреливаете?
Леонид сдержанно улыбнулся.
– Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.
– А многих нужно?
– Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.
– Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.
– Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, – да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.
– Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же, – физически уничтожать?
– Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, – уйдут к Колчаку, к Деникину и будут сражаться против нас.
Катя ахнула.
– Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение… Какая гадость!
Леонид пренебрежительно взглянул на нее.
– Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего – диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.
– Но погоди, – сказал Иван Ильич. – Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертною казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?
Леонид изумленно пожал плечами.
– Удивительно! Мы уж совсем на разных языках говорим… Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической бойне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.
– Но ведь ты говорил – пролетариат никогда не примирится со смертною казнью, в принципе!
– Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.
Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.
– Предали революцию! – с тоской воскликнул он. – Предали безнадежно и безвозвратно!
Леонид насмешливо блеснул глазами.
– Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция – не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слыхали про ее великанов, – Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию… Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, – вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, – сколько вас?
– Вас много, потому что хамов много.
– Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, – что вы делаете в это великое время? Вы, – я не знаю, может быть, вы за добровольцев?
– Нет, брат, избавь от этой чести!
– А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. "Хамы" делают революцию, льют потоками чужую кровь, – да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, "истинные" революционеры, только смотрят и негодуют!..
Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

В 1901 году, увидела свет книга молодого врача-писателя Викентия Викентьевича Вересаева «Записки врача». Она имела сенсационный успех. Переживания начинающего свою деятельность врача, трудности, доводившие его до отчаяния, несоответствие между тем, к чему его готовили, и тем, что он увидел в жизни, – обо всем этом рассказано в «Записках врача» ярко и откровенно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
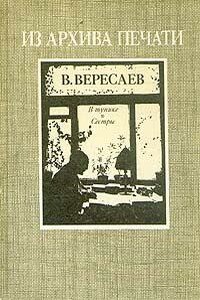
Современному читателю неизвестны романы «В тупике» (1923) и «Сестры» (1933). В начале 30-х гг. они были изъяты с полок библиотек и книжных магазинов и с тех пор не переиздавались.В этих романах нашли отражение события нашей недавней истории: гражданская война и сложный период конца 20-х – начала 30-х годов.В послесловие вошли не публиковавшиеся ранее материалы из архива писателя.http://ruslit.traumlibrary.net.

Я ушел далеко за город…Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный.Почему? Я сам не понимаю…

Я шел по улицам Старого Дрездена. На душе было неприятно и неловко: шел я смотреть ее, прославленную Сикстинскую мадонну. Ею все восхищаются, ею стыдно не восхищаться. Между тем бесчисленные снимки с картины, которые мне приходилось видеть, оставляли меня в совершенном недоумении, чем тут можно восхищаться…
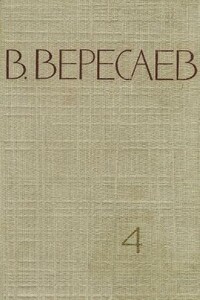
Редкое творческое долголетие выпало на долю В. Вересаева. Его талант был на редкость многогранен, он твердо шел по выбранному литературному пути, не страшась ломать традиции и каноны. В четвертый том вошли повести и рассказы: «К жизни», «Марья Петровна», «Дедушка», «У черного крыльца», «Семейный роман», «За гранью», «Состязание», «В глуши», «Исанка», «Болезнь Марины», «Невыдуманные рассказы о прошлом».http://ruslit.traumlibrary.net.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.