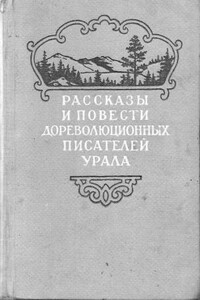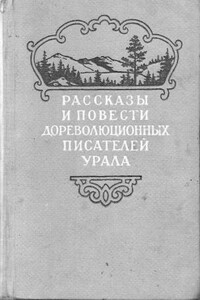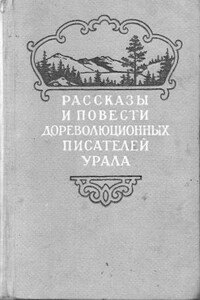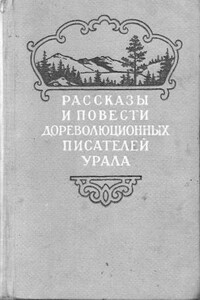Вода в реке испорчена стекающим с машин жиром, смолой и другими отбросами. Пить вонючую воду вредно. Врач говорил, что эпидемия тифа от воды. Был составлен протокол. Судил земский начальник. Заводский поверенный изрек, что пьет эту воду тридцать три года и здоров. Судья решил, испорченность воды не доказана. Тех, которые требовали составления протокола, уволили с завода и не принимали целый год. Что это такое?
Был случай, двоих рабочих машиной искромсало. Мертвецов с почестями схоронили, а вдовам да сиротам по червонцу дали. Этим дело и окончено. Трудно представить себе, что должны испытать и вытерпеть сироты-дети, живя на улице и побираясь.
Населения на заводе более десяти тысяч. А что сделано? Имеется хорошая больница? Открыта заводская школа? Устраиваются чтения? Заведена библиотека? Застрахованы рабочие от несчастных случаев? Нет и нет!
Вот самый животрепещущий вопрос — землеустройство. При освобождении, чтобы иметь дешевую рабочую силу, оставили крестьян без земли и привязали к заводу. Не хочешь умирать, так будешь работать. Так как жить, кроме заработка, нечем, то рабочий служит заводу. За такую плату, какую назначат. Повсеместный избыток рабочих тоже на руку заводам.
Земельная нужда назрела. Крестьяне расчищали пашни самовольно, и за это их сажали в тюрьму и штрафовали. Нужда заставляла расчищать пашни и нести кары. Здешние крестьяне столько заплатили штрафов, что теперь землю решено нарезать им без выкупа. И это будет акт простой справедливости. Но что же видим? Оспаривание угодий да урезки. Выгон, тысячи десятин, которыми владели крестьяне сто лет, завод отнимает у них.
Итогов служит в бухгалтерии пятый год, работает, как вол, по десять часов в сутки, а получает тридцать рублей в месяц. Бухгалтер наш, сухой и деревянный, приехал из столицы, дела не знает, работает по два часа в день, а получает три тысячи в год!
Пусть все это частности. Какова же общая картина жизни Урала? Богатый край, золотое дно. В недрах — золото, платина, серебро, медь, свинец, железо, асбест, нефть, уголь, мрамор, самоцветы… Богатейший край! Но люди, добывающие и обрабатывающие эти богатства с риском для здоровья, живут в нужде, голодают, болеют тифом да цынгой… Через золото слезы льются…
Говорят — кризис! Нелепость! Кто виноват, что техника отстала, печи и машины старой конструкции, все рынки перешли к конкуренции? Почему владельцы, наживающие миллионы, не хотят сделать затрат на лучшее оборудование заводов? Ведь они целые века брали и ничего не давали. Жили за границей, ездили летом в санях по усыпанной солью дороге, самодурствовали без границ. Отчего видим одно обирательство кругом? Расхищаются земляные богатства, истребляется лес, безбожно эксплуатируются рабочие? Потому все это, что строй никуда не годится, все устарело, все прогнило и все безнадежно. Теперь вокруг видишь тупых, равнодушных людей, трудящихся без отдыха, видишь сотни безработных, ищущих труда, но не. находящих его и голодающих, видишь детей, подрастающее поколение, в невежестве и голоде. Между тем все это могло бы быть совершенно иначе: вместо нищеты при наименьшей затрате труда, сил и времени — обеспеченность, вместо невежества — свет знания, вместо принижающего труда — труд свободный, любимый и одухотворяющий… И все это будет…
Ко мне входит Итогов и начинает длинно, с ненужными подробностями рассказывать о спектакле.
— Играли себя и аплодировали себе, — замечаю я.
Но он не понимает, продолжает речь, говорит утомительно долго, неинтересно и, наболтавшись вволю, умолкает, зевает, прощается и уходит в свою комнату.
Слышу, как Итогов раздевается и ложится на скрипучую кровать. Скоро он уснул. В доме стало тихо. Слышу, как дышит Итогов и как тикают часы.
Становится невыносимо грустно. Тоска, как тисками, сжимает грудь. Кажется странным, как можно быть таким флегматичным и спокойно-спокойно спать, как способен на это Итогов? Закипает в сердце ненависть к тупым людям, острое отчаяние закрадывается в душу и хочется громко закричать:
— Как душно! Какая глушь!
Подхожу к окну и, приникнув головой к холодному стеклу, всматриваюсь в непроглядный мрак и прислушиваюсь к мертвой тишине за окном. Тихо-тихо вокруг, только издалека доносится глухой методический гул завода, похожий на рычание зверя. Мне чудится в нем торжествующий смех чудовища, всесильного властелина над ничтожными рабами.
«И это чудовище, — думаю я, — создано, выхолено и доведено до такой степени могущества потом и кровью предшествующих поколений — прадедов, дедов и отцов — будет властвовать над их потомками — детьми, внуками и правнуками».
Но тотчас же встает новая мысль:
— Нет, придет время, оно уже близко: мрак уступит свету, восторжествует братская солидарность в труде, и тогда завод будет не чудовищем, выжимающим соки из рабочих, а источником сил для грядущих побед!
1912