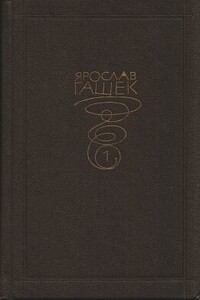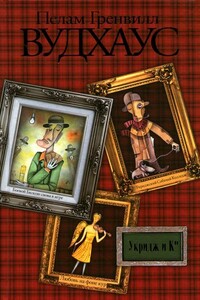— У нас про что речь, Нил Васильевич, — начал Григорий Сотников размеренно, — я вот это… Я недавно, мол, у моря был. Интересовался. Там так, Нил Васильевич. Приходишь ты в определенное место, тебя встречают: «Зачем пожаловали, мил человек?» Ты им опять свое: мне то, то и то. Допустим, бруса пять кубометров, плахи, соответственно, семь с половиной кубометров, шиферу сорок три листа. Вот. Они тебе: «Будет сделано». И все.
Нил Васильевич примостился на бревешко, покряхтел, вытянул, изловчась, из кармана пачку «Севера» и закурил. Речь Григория Сотникова он оставил без внимания, похлопал Павла Ивановича черной рукой по плечу:
— Фундамент копать собрался?
— Да, Нил Васильевич.
— Цемент есть, кирпич есть?
— Нет ни цемента еще, ни кирпича.
— Где доставать надумал?
— В городе, на базе.
— Яму рыть брось: водой все позальет, чем воду откачаешь? Нечем, так? Сруб на улице руби, после перенесешь.
Григорий Сотников, похоже придремнув, пока дед распоряжался, снова затянул свою канитель:
— У нас про что речь, Нил Васильевич. Я, вот, недавно у моря был…
— Ты за моря да океяны пальцем не показывай, ты здеся достань. Достанешь?
— Я-то достану, а вот он, — Сотников кивнул на Павла Ивановича, — он не достанет.
— Ты, Гриша, запрошлую осень из каких шишей баню-то робил? Уворовал лес с берега. Так?
— Почему уворовал? Выписывал!
— Ты свои сказки кому-нибудь обскажи, ребятишкам своим, они по глупости и поверят, а мне врать не надо. Ты уворовал, а ему, образованному человеку, не с руки государственное добро задарма брать лишь потому, что плохо лежит. Совсем другие, Гриша, пироги получаются. Ты не серчай, я тоже лес с берега брал. Все берут. А он брать не хочет. Ну и намыкается.
— Это да — намыкается.
— Каждому, Гриша, свое.
— Ну ладно, — вздохнул Григорий. — Двигать мне пора, поеду веники ломать, не то поздно будет. Сейчас самый веник.
— Я уже наломал! — с гордостью и достоинством сказал Павел Иванович. — Штук сорок.
— Зиму себе, выходит, обеспечил, только бани не хватает. Я тоже пошел, дела все, дела. В могиле разве что и отдохнешь, правильно говорят в пароде-то. — Дед Паклин поднялся, хрустя суставами, и опять похлопал Павла Ивановича по плечу: — Ты не робей, сусед, выпишутся у тебя козыри, жди своего часа.
— Спасибо.
— На здоровьичко.
— Не боги горшки обжигают, Нил Васильевич.
— Оно и правильно, не боги. Лес-то повалил?
— Повалил.
— Иде?
— На Чистой Гриве, Нил Васильевич.
— Далеконько, однакова. Ить и лес там никудышный, кривая там осина.
— Да на глаз-то вроде ничего…
— Оно и на глаз так: рубишь, вроде бы и ничего, привез домой — кривая. Теперя, значит, трелевать. А вывозить трактором будешь?
— Где его взять, трактор-то?
— Где и можно взять: хорошо попросишь, да хорошо заплотишь, да водки поставишь ладно. Тебе сруб тот в копейку обкатится. Ты бы браги наварил или самогону бы нагнал, дешевле будет.
— Нельзя, Нил Васильевич, запрещено самогон-то гнать.
— Оно и запрещено, да гонит кое-кто. Плати за водку, мне-то что, я человек сторонний, не из моего кармана рубли-то тянут. Да. Но пойду. — Дед подобрал с земли алюминиевую чашечку, похлопал ею по штанине. В этот момент Павла Ивановича, можно сказать, черт дернул задать вопрос насчет того, каким способом в данной ситуации стрелевать лес и, главное, где достать лошадь. Нил Васильевич встрепенулся, в размытых его глазах мелькнул огонек.
1
Для зачина дед произнес свое длинное «и-и-ии». Павел Иванович понял, что дед волнуется, в голове его включилась та самая шестеренка, у которой не хватает зубьев, и мыслительный процесс пошел вразброс.
Паклин сел на табуретку, занимаемую давеча Григорием Сотниковым, и нервно огладил острые свои колени руками. Павел Иванович уяснил с пробелами следующее: когда молодой и бравый Нилка Паклин работал уполномоченным в кредитном товариществе, у него был конь, так всем коням конь — серый рысак в яблоках, конфискованный революционным порядком с усадьбы купца Ферапонта Семибратова. Помянутый жеребец высекал копытами пламень из камня, а обогнать, например, автомобиль жеребцу по кличке Генерал и вовсе ничего не стоило. Устраивали такие соревнования, и верх обязательно брал Генерал. Песня даже была…
Дед выпрямил спину, облизал губы и спел. Голос его дребезжал и обрывался:
…Ежлив «эмка» «форда» перегонит,
Значить, буду я, Вася, твоя…
Песня была вроде и некстати, потому что про жеребца Генерала в ней не поминалось вовсе, Паклин вспомнил ее, наверно, применительно к другой житейской ситуации, но коли уж вспомнил, то и спел. Следом речь стала наматываться возле другой мысли: нынче у нас июль, а в июле самый покос, и лошади, даже захудалой, Павел Иванович не увидит как собственных ушей. Кроме того, нонешние хозяева развратили лошадей невозвратно.
Закрутилась шестеренка с полным набором зубьев, и Нил Васильевич начал объясняться вполне логично.
— Возьмем школу, — дед Паклин загнул на левой руке мизинец, — тама две лошади — Мери и Лешак. Мери считай, совсем негодная. Избалованная кобыла. Она — вроде небитой бабы. Лешак, тот бы и ничего, но старый и больной. Этот всю жизнь работал. Изработался. Возьмем сельпо. — И снова в ход пошли пальцы. — Тама четыре коня и как один бросовые. Тьфу, а не кони, — Нил Васильевич сердито сплюнул под ноги себе, — уросливые, ленивые. Эти похожи на твоего друга Евлампия, только что водку не жрут.