В огне и тишине - [45]
— А нича, — небрежно ронял Костя. — Работай. Ты жилявый. Нича…
— А вот не стану я на тебя, ишачить — что жрать будешь? — пытался наступать Николай, хотя и понимал, что атака захлебнулась.
— Вот не буду! Ну?
— А чо «ну»? Хвост гну. Што ты, то и я. Жрать тебя никто не заставляет. Сам небось хошь? А хошь лопать — не ленись топать. Нича, трудись.
После столь обширного высказывания Костя замолкал на час, а то и дольше. Николай, все еще бормоча что-то про себя, опять метался по двору: то бегал к ручью за водой, то веял крупу, найденную на чердаке этого брошенного хозяевами дома, то, свирепо хекая, рубил большим топором дрова. Иногда сквозь его невнятное бормотание прорывались отдельные слова: «Лопать. Ишь, благородие… Я ишачь, а он… Все жрать любят… На готовенькое. А как достать… сразу Колюн!.. Благородие, гроб твоей бабке…»
Николай был худощав, смугл, темноволос. На низкий, перечеркнутый морщинами лоб все время заваливался лихой и роскошный парубоцкий чуб.
Роста он был одинакового с Костей, но тоньше в кости, подвижный, резко порывистый до суетливости. Николай почему-то казался подростком рядом со своим основательным и невозмутимым напарником, хотя морщины на дубленой смуглой коже лица и вздутые вены на сухощавых руках говорили о том, что он гораздо старше Кости.
Митя Глущенко за три недели, что прошли с того дня, когда эти двое появились в доме, где он валялся, обессиленный от голода и дизентерии, и покорно умирал, — за эти три недели привык к солдатам и ни на миг не задумывался, почему они живут здесь, в то время как сюда отчетливо доносится немолчный грохот передовой, бегущей по склонам гор Лысая и Индюк.
Митька поправлялся и с благодарностью посматривал из своего заваленного овчинами логова на заботливых и опрятных солдат, кормивших его, отпаивавших чаем, поддерживавших, когда он в первые дни, качаясь, выходил во двор по нужде, заботливо кутавших его на ночь, когда сентябрьский холодок густо и тягуче вливался в дверной проем, который нечем было закрыть, — дверь, вероятно, кому-то очень потребовалась в другом месте.
Вчера, правда, Митька спросил у Кости, как это они могут так долго ухаживать за ним — ведь там же бои…
— А ты не шебурши. Стало быть, могим.
Подоспевший Николай быстро затараторил:
— Ты, Митя, не того… Мы ж тут не одни. Весь наш, этот, ну, батальон тута. Нас на отдых отвели. С передовой. Потрепали, значится, нас фрицы. Ну, известное дело, и мы их, того, взгрели. Верно, Коська? Ну да от тебя слова путного не дождешься. Одним словом, ты, Митя, не того, не думай. Понял?
Вечером они долго о чем-то шептались, но Митя ни слова не разобрал и забылся темным и тяжелым сном дистрофика.
Проснулся он от холода. Укрывавшая его овчина сползла, и потрепанный, еще домашний пиджачок оказался бессильным против остро-колючей прохлады осеннего рассвета в горах. В дверной проем глядело неуместно ясное и радостное утро. За хребтом, тушью прочерченным на фоне золотисто-алой зари, буднично-назойливо бормотал передний край обороны — пулеметным рыком, автоматным треском, глухим стуком винтовочных выстрелов, хлопками гранат, чмоканьем мин, резкими, торжествующе-злобными вскриками осколочных снарядов и утробным уханьем фугасов.
Митька натянул овчину, закрыл глаза и вдруг представил, что там, за горой, лежит какой-то громадный черный зверь, свирепо ворочается в тесном ущелье, достает когтистыми лапами людей в окопах и, безобразно чавкая, хрустя костями, удовлетворенно урча и рыкая, жрет и жрет солдат, людей, у которых где-то есть мать, жена, дети, друзья, жрет, как львы конину в зверинце, не спеша, не думая о том, что этот солдат — человек, кому-то самый родной и близкий, самый дорогой на земле…
От этих воображаемых картин Митьке стало не столько страшно, сколько обидно, горько и тоскливо жаль себя, родных своих, друзей-товарищей и родную землю. Так жаль, что даже едкие слезы пробились сквозь стиснутые ресницы. Митька пошевелил тонкой куриной шеей и окончательно открыл глаза. Бездумно скользнул рассеянным взглядом по черным бревенчатым стенам комнаты, по большой печке с огромным, словно от дикой боли, разверстым ртом, по широкой лавке вдоль стены и крепкому дубовому столу у ней… И вдруг Митька вздрогнул: двуспальная широкая кровать, на которой Николай любил понежиться по утрам, была пуста. Не просто пуста — на ней не лежали расстеленные солдатские шинели и вещмешки, служившие подушками. Над кроватью не висели СВТ. Не было и котелков на плите.
Митьку прошибла дрожь. Он вскочил, торопливо натянул самодельные постолы на потемневшие ободранные ноги, подвязал поворозки. Выбежав на двор, чуть не задохнулся от пьянящего воздуха и золотисто-трепетной свежести утра. Под ослепительными, торжествующими лучами солнца, брызнувшими из-за Лысой горы, буйно и животворно глянули росинки дождя на блеклом багреце осенних листьев, на кустах и стебельках жухлой травы. Это сверкающее многоцветье оглушило Митьку торжественно-звучной тишиной, тревожным биением неосознанной радости. И даже грубое урчание передовой словно бы мгновенно смолкло и только спустя одну-две минуты вдруг ворвалось необузданно и грязно в священный хорал первозданного пробуждения осеннего утра в горах. Это вторжение вывело Митьку из недолгого оцепенения, заставило мгновенно вспомнить и войну, и бездомное свое одиночество здесь, в горах, в одинокой рубленой избе на опрятной лесной полянке, и то, что ему некуда идти, не во что одеться, нечего есть и неизвестно, что делать и как быть дальше. Исчезновение солдат, таких взрослых, самостоятельных и уверенных, вызвало у парнишки полную растерянность. Он сел на полуметровой толщины аккуратный пень совсем недавно спиленного бука, бездумно протянул руку к успевшей потемнеть кучке опилок и сжал в ладони податливую влажную древесную кашу. Разжав кулак и глядя на продолговатый комок на ладони, вспомнил, как в тридцать третьем голодном году мать пекла лепешки из жмыха, щепотки кукурузной муки, лебеды и щедрой пригоршни опилок. Это кондитерское чудо почему-то называлось латутик или калябушка. Захотелось есть, Митя громко сглотнул слюну. И опять пришла тревога: где же солдаты-кормильцы, как дальше жить одному? Раньше они так никогда не исчезали. Раньше… Да, уже перевалило за двадцать дней, как он в полубеспамятстве добрался, почти дополз от дороги до этого дома. Как же произошло, что он отстал, потерялся, превратился из Митьки Глушенко в бездомного, никому не нужного неприкаянного подростка, истерзанного голодом, дизентерией и вшами?
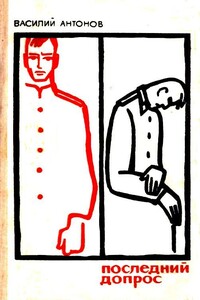
Писатель Василий Антонов знаком широкому кругу читателей по книгам «Если останетесь живы», «Знакомая женщина», «Оглядись, если заблудился». В новом сборнике повестей и рассказов -«Последний допрос»- писатель верен своей основной теме. Война навсегда осталась главным событием жизни людей этого возраста. В книгах Василия Антонова переплетаются события военных лет и нашего времени. В повести «Последний допрос» и рассказе «Пески, пески…» писатель воскрешает страницы уже далекой от нас гражданской войны. Он умеет нарисовать живые картины.

Это просто воспоминания белой офисной ни разу не героической мыши, совершенно неожиданно для себя попавшей на войну. Форма психотерапии посттравматического синдрома, наверное. Здесь будет очень мало огня, крови и грязи - не потому что их было мало на самом деле, а потому что я не хочу о них помнить. Я хочу помнить, что мы были живыми, что мы смеялись, хулиганили, смотрели на звезды, нарушали все возможные уставы, купались в теплых реках и гладили котов... Когда-нибудь, да уже сейчас, из нас попытаются сделать героических героев с квадратными кирпичными героическими челюстями.

Был такой плацдарм Невский пятачок. Вокруг него нагорожено много вранья и довольно подлых мифов. Вот и размещаю тут некоторые материалы, может, кому и пригодится.

Воспоминания о блокаде и войне написаны участником этих событий, ныне доктором геолого-минерал. наук, профессором, главным научным сотрудником ВСЕГЕИ Б. М. Михайловым. Автор восстанавливает в памяти события далеких лет, стараясь придать им тот эмоциональный настрой, то восприятие событий, которое было присуще ему, его товарищам — его поколению: мальчикам, выжившим в ленинградской блокаде, а потом ставших «ваньками-взводными» в пехоте на передовой Великой Отечественной войны. Для широкого круга читателей.

«Лейтенант Бертрам», роман известного писателя ГДР старшего поколения Бодо Узе (1904—1963), рассказывает о жизни одной летной части нацистского вермахта, о войне в Испании, участником которой был сам автор, на протяжении целого года сражавшийся на стороне республиканцев. Это одно из лучших прозаических антивоенных произведений, документ сурового противоречивого времени, правдивый рассказ о трагических событиях и нелегких судьбах. На русском языке публикуется впервые.

Еще гремит «Битва за Англию», но Германия ее уже проиграла. Италия уже вступила в войну, но ей пока мало.«Михаил Фрунзе», первый и единственный линейный крейсер РККФ СССР, идет к берегам Греции, где скоропостижно скончался диктатор Метаксас. В верхах фашисты грызутся за власть, а в Афинах зреет заговор.Двенадцать заговорщиков и линейный крейсер.Итак…Время: октябрь 1940 года.Место: Эгейское море, залив Термаикос.Силы: один линейный крейсер РККФ СССРЗадача: выстоять.