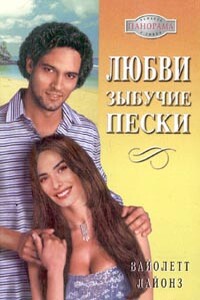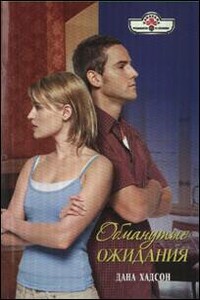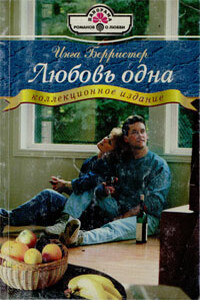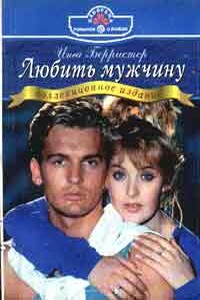— Я говорил себе, что мне нужны доказательства истинности твоей любви и доверия, хотя эти доказательства все время были у меня перед глазами. То, как ты приняла меня. То, как вела себя. То, как позволяла обращаться с тобой. Я не понимал ни этого, ни своих собственных чувств. Но знал, что мать поймет. Вот почему я так быстро увез тебя с Сицилии. Ей хватило бы одного взгляда на мое лицо, чтобы понять, что я все еще схожу по тебе с ума. И молчать об этом она бы не стала. А потом настал тот вечер…
Он не смог найти подходящих слов и медленно покачал головой, осуждая свое поведение. Но Джесс объяснения уже не требовались. Теперь она понимала, что значит слово «доверие». То, что она инстинктивно, не думая, бросилась к Лоренцо, стало тем самым доказательством, в котором он так отчаянно нуждался.
— Джесс, любовь моя, прости меня. Прости за глупость и слепоту, за высокомерие и гордость, за невежество и…
Она не позволила ему продолжить эту покаянную речь, просто прильнув губами к губам и дав понять, что никакие слова не нужны и что просить прощения не за что.
— А ты должен простить меня за сомнения, — прошептала она, не отрываясь от его рта. — Я должна была знать, что человек, которого я люблю, не способен на такие ужасные вещи. А я действительно люблю тебя, Лоренцо. Люблю так, что об этом больно думать.
Потом она долго молчала. Потому что не успела Джесс договорить последнее слово, как Лоренцо жарко и жадно поцеловал ее в губы. За этим поцелуем последовала тысяча других, еще более страстных, чем первый. За поцелуями последовали ласки, а ласки пробудили желание.
Сама не зная, как это случилось, Джесс оказалась в постели Лоренцо. Она понятия не имела, где осталась ее одежда, но какая разница? Значение имело только одно: она наконец оказалась там, где должна была оказаться давным-давно. Ее сердце нашло свой дом, место, для которого она родилась и которое было предназначено для нее самой судьбой.
Жадно приняв в себя истосковавшееся тело Лоренцо, она не смогла сдержать крика острого наслаждения и поразилась тому, что сегодня они, пожалуй, впервые по-настоящему занимаются любовью. Впервые их сердца и души соединились так же полно, как до этого соединялись только тела.
— Не могу понять одного… — пробормотала она много времени спустя, когда голод был насыщен и измученные любовники лежали в объятиях друг друга.
— Чего же, любовь моя?
Голос Лоренцо был хриплым от удовлетворения и таким же ленивым, как их расслабившиеся тела.
— Ты сказал, что у тебя есть вопрос, на который я должна ответить. Что это было?
— А ты разве не догадалась? — нежно поддразнил он. — О чем еще я мог спросить? Я хотел узнать, выйдешь ли ты за меня замуж. Окажешь ли ты мне великую честь стать моей женой.
— Твоей женой! — Потрясение заставило ее порывисто сесть и сверху вниз посмотреть на любимое смуглое лицо. — Но ты сказал, что не можешь дать мне этого…
— Я сказал, что не могу дать тебе больше того, что уже дал, — мягко поправил ее Лоренцо. — Потому что это было бы невозможно. Как я могу дать больше того, что отдал когда-то? Если ты уже давно поработила мое сердце, мой разум, мое тело и даже мою душу? Если бы я мог, то отдал бы тебе весь мир…
— Я говорила тебе, что мне не нужны вещи, — напомнила ему Джесс, сердце которой пело от неудержимой радости. — Если ты хочешь сделать мне подарок, обручального кольца будет больше чем достаточно. Этого и, может быть, еще двенадцати осенних листьев, которые ты обещал собирать каждый год, когда мы поженимся. Что, нет? — смущенно спросила она, когда Лоренцо покачал головой и тепло улыбнулся.
— Разве ты не знаешь, что они уже у тебя? То ожерелье… Листья в нем настоящие. Я собрал их для тебя еще до того, как мы расстались, и оправил в золото, чтобы они сохранились навсегда. Они должны были стать твоими в тот день, когда мы поженимся.
— Я надену их на свадьбу, — пообещала Джесс, наклонилась и поцеловала его.
Она знала, что в будущем такие приметы не понадобятся. Как только она станет женой Лоренцо, счастливым будет каждый день каждого их совместно прожитого года. А жить вместе они будут долго, очень долго, до самого конца.