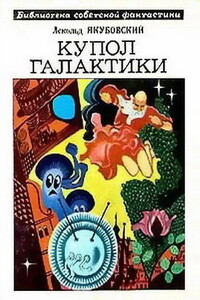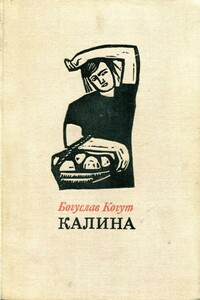Но зима смазала все, и серьезных улик мы пока что не нашли».
Я напомнил ему о двуротом. Лобов сказал:
— Терпи! Мы с тобой охотники, мы сможем долго ждать. Ну, кто-нибудь болтанет, что-нибудь новое выплывет. Жди!
Я жду.
Жду! И жизнь моя вкусом как та желтая рябина, за которой грозно и страшно поднялась крыша лесной сторожки.
Я помню, все помню.
Вот Старик говорит мне глухим голосом, что мы идем в новую жизнь (и был прав).
Лениво скачет заяц; вот мой Старик гладит длинные его уши.
— Трусь, — говорит он зайцу. — Трусь, живи, не трусь.
И заяц вздрагивает шкурой.
Я слышу: отец велит мне оставлять после себя сделанное добро, беречь маму, обливаться холодной водой, работать, учиться.
Я вижу: сыплется первый снег, обтягивает осенние деревья серебряной сетью. И плавает в моих глазах погашенная кем-то отцовская улыбка, покойная, ясная.
Я все сделаю, отец, все — и добро тоже. Но сначала я должен узнать — кто?…