В лесах - [3]
– Залоги?
– Вот они! – молвил Патап Максимыч.
Отдал деньги и пошел цену сносить. Снес чуть не половину, а четыре копейки нажил на рубль. Очень недовольны соляные остались.
Патап Максимыч с семьей старинки придерживался, раскольничал, но закоснелым изувером никогда не бывал. Не держался правила: «С бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленым рылом не молись, не водись, не дружись, не бранись». И раскольничал-то Патап Максимыч потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся, от людей отставать ему не приходилось. Притом же у него расколом дружба и знакомство с богатыми купцами держались, кредита от раскола больше было. Да, кроме того, во время отлучек из дому по чужим местам жить в раскольничьих домах бывало ему привольней и спокойней. На Низ ли поедет, в верховы ли города, в Москву ли, в Питер ли, везде и к мало знакомому раскольнику идет он, как к родному. Всячески его успокоят, все приберегут, все сохранят и всем угодят. И то льстило Патапу Максимычу, что после родителя был он попечителем городецкой часовни, да не таким, что только по книгам значатся, для видимости полиции, а «истовым», коренным. От часовенного общества за то ему почет был великий. А почет Чапурин любил.
Семья у него небольшая, сам с женой да две дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка, сызмальства Чапуриным призренная, – та уж замуж выдана была в деревню Вихорево за тысячника. Родные дочери тоже на возрасте были: старшей, Настасье, восьмнадцать минуло, другая, Прасковья, годом была помоложе. Только что воротились они в родительский дом от тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной из Комаровских обителей. Гостили девушки у тетки без мала пять годов, обучались Божественному писанию и скитским рукодельям: бисерны лестовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец тысячник выдаст замуж в дома богатые, не у квашни стоять, не у печки девицам возиться, на то будут работницы; оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и «часовник» и все двадцать кафизм псалтыря наизусть затвердили, отеческие книги читали бойко, без запинки, могли справлять уставную службу по «Минее месячной», петь по крюкам, даже «развод демественному и ключевому знамени» разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало «Цветников» да «сборников» переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подарение. А Патап Максимыч любил на досуге душеспасительных книг почитать, и куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другие сказанья, с золотом и киноварью переписанные руками дочерей-мастериц. Какие «заставки» рисовала Настя в зачале «Цветников», какие «финики» по бокам золотом выводила – любо-дорого посмотреть!
Настя с Парашей, воротясь к отцу, к матери, расположились в светлицах своих, а разукрасить их отец не поскупился. Вечерком, как они убрались, пришел к дочерям Патап Максимыч поглядеть на их новоселье и взял рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столике. Тут были «Стихи об Иоасафе царевиче», «Об Алексее Божьем человеке», «Древян гроб сосновый» и рядом с этой псальмой «Похвала пустыне». Она начиналась словами:
Перевернул Патап Максимыч листок, там другая псальма:
Поморщился Патап Максимыч, сунул тетрадку в карман и, ни слова не сказав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене:
– Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.
– Чего за ними, Максимыч, приглядывать? Девки тихие, озорства никакого нет, – отвечала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.
– Не про озорство говорю, – сказал Патап Максимыч, – а про то, что девки на возрасте, стало быть, от греха на вершок.
– Что ты, Максимыч! Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь! И в головоньку им такого мотыжничества не приходило; птенчики еще, как есть слетышки!
– Гляди им в зубы-то! Нашла слетышков! Настасье-то девятнадцатый год, глянь-ка ей в глаза-то – так мужа и просит.
– Полно грешить-то, Максимыч, – возвысила голос Аксинья Захаровна. – Чтой-то ты? Родных дочерей забижать!.. Клеплешь на девку!.. Какой ей муж?.. Обе ничегохонько про эти дела не разумеют.
– Держи карман!.. Не разумеют!.. В Комарове-то, поди, всякие виды видали. В скитах завсегда грех со спасеньем по-соседски живут.
– Да полно ж грешить-то тебе!.. – еще больше возвысила голос Аксинья Захаровна. – Как возможно про честных стариц такую речь молвить? У матушки Манефы в обители спокон веку худого ничего не бывало.
– Много ты знаешь!.. А мы видали виды… Зачем исправник-от в Комаров кажду неделю наезжает… Даром, что ли?.. В Московкиной обители с белицами-то он от писанья, что ли, беседует?.. А Домне головщице за что шелковы платки дарит?.. А купчики московские зачем к Глафириным ездят?.. А?..
– Полно тебе, старый хрен, хульные словеса нести, – с озлобленьем вскричала Аксинья Захаровна. – Слушать-то грех!.. Совсем обмирщился!.. Аль забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?.. Повелся с табашниками-то!.. Вот и скружился. На святые обители хулу нести!.. А?.. Бога-то, видно, в тебе не стало… Знамо дело, зачем в Комаров люди ездят: на могилку к честному отцу Ионе от зубной скорби помолиться, на поклоненье могилке матушки Маргариты. Мало ль в Комарове святыни!.. Ей христиане и приезжают поклоняться. А по лесу сколько святых мест на старых скитах, разоренных!
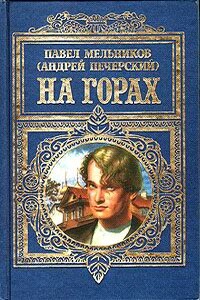
Книга П.И.Мельникова представляет собой вполне самостоятельное произведение, но в то же время является продолжением эпопеи «В лесах». В произведении воссозданы жизнь старообрядческого купечества Заволжья, быт, нравы и обычаи местного населения. Глубокое проникновение в сущность процессов, происходивших в старообрядческой и купеческой среде, талант психолога, бытописателя и мастера слова принесли романам «В лесах» и «На горах» известность и большой читательский интерес.

Из дорожных записок.Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 5–24.

Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 144–160.

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Собрание сочинений в 8 т.М., Правда, 1976.

Из раскольничьего быта.Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 249–288.

Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 39–64.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
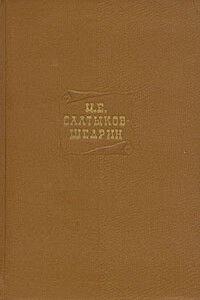
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
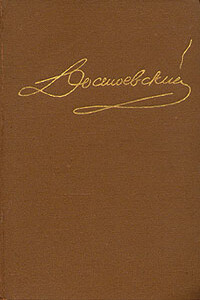
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.