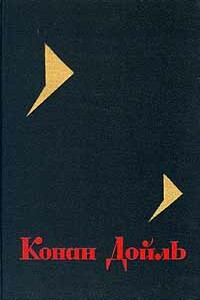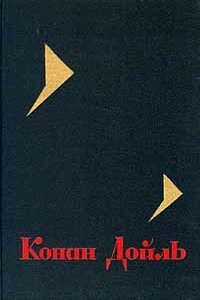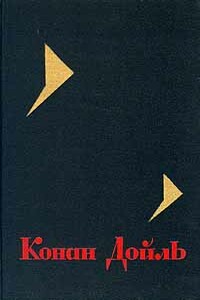— Иди-ко сюды! — поманила меня Василиса Мироновна, приотворив дверь в переднюю избу. — Я тебе покажу одну штучку.
Мы вышли в сени. Василиса Мироновна отворила дверь в заднюю избу и дала мне дорогу. Издали мелькнула неугасимая лампада, которая теплилась перед целым иконостасом из старинных образов. На меня пахнуло росным ладаном и запахом восковых свеч и деревянного масла.
— Не признаешь ли? — спрашивала раскольница, указывая рукой на какую-то женщину в черном платке.
Я немного даже отшатнулся назад: передо мной сидела Евмения. На ней надет был косоклинный раскольничий сарафан с глухими проймами, ситцевый, подвязанный в подмышках передник, белая миткалевая рубашка. Голова была повязана темным ситцевым платком, сильно надвинутым на глаза; из-под платка выбивалось несколько прядей белокурых волос; болезненно-пристальным взглядом смотрели совсем округлившиеся серые глаза.
— Здравствуйте, — проговорил я, протягивая руку.
— Здравствуйте… — как-то неохотно ответила Евмения.
— Помилуйте, Евмения Калиновна, что это за маскарад такой?
— Маскарад?.. Вы думаете, что это маскарад?.. Нет, настоящий маскарад кончился, — будет! — При последних словах Евмения хрустнула пальцами и засмеялась злым смехом.
— Вы давно из Петербурга?
— Право, не помню хорошенько… Василиса Мироновна, когда я пришла к вам?
— Третьева дни, милушка, третьева дни… Этак под вечер будет, — отвечала раскольница, складывая свои руки на груди.
— Вот к ней под начал поступаю, — проговорила Евмения, вскидывая глазами на Василису Мироновну. — В горы скоро уйдем, в скиты…
Меня совсем изумила встреча с Евменией в этой обстановке, которая представляла такой резкий контраст с тем, что я видел каких-нибудь полгода назад в клубе художников. Расспрашивать Евмению прямо о причинах ее появления в Старом заводе я не решался, предоставляя ей самой высказаться. После короткого разговора ни о чем Евмения кинула мне вызывающую фразу:
— Что же вы меня не спрашиваете, зачем я уехала из распрекрасного Петербурга? Может быть, опасаетесь повредить мои нервы?..
Точно вспомнив что-то, она быстро и уже серьезным тоном проговорила:
— Вы, батенька, пожалуйста, не смотрите на меня, как на жар-птицу… У меня ведь действительно неладно с нервой. Я поэтому больше и инкогнито сюда заявилась. Не хотелось ни с кем встречаться из старых знакомых. Отдохнуть хочется. Устала.
Евмения при последних словах несколько раз сухо кашлянула.
— Видите, бронхит на память о Петербурге привезла…
— Молочко-то ты выпила? — спрашивала Василиса Мироновна.
— Выпила… Спасибо, голубушка, на молочке. Мужик за спасибо три года работал… Ну, а что Савва? — спросила Евмения, беззаботно встряхнув головой. — Все еще, небойсь, дуется… Скажи ему, что я не сержусь на него.
— Вот, подумаешь, связался старый с малым, — полушутя, полусерьезно проговорила Василиса Мироновна, обращаясь собственно ко мне. — Не берет их мир — и кончено… Никак это вчерась за ужином было… Ведь чуть они не разодрались, ей-богу!.. Эта стрекоза-то давай старика своими цигарками дразнить, а тот и войди в сердце. И смех и горе… О-о-хо-хо!.. Теперь и сидят по разным углам, как кошка с собакой.
— А я очень люблю Савву, — откровенно призналась Евмения. — Он такой славный старик и так смешно о своей лошади тоскует… Мы с ним послезавтра в скиты отправляемся. Дорогой помиримся…
— Вы долго думаете пробыть здесь? — спросил я.
— Я-то?.. Гм… Я приехала, надо полагать, совсем, — ответила Евмения и задумалась. — Доктора проклятые все мутят, — прибавила она с улыбкой. — Насказали мне таких четвергов с неделей, что ложись да умирай: и в груди неладно, и нервы, и ностальгию приплели. Да ведь вы еще не знаете ничего… Праведный-то — помните? — формальное предложение мне сделал, да-а!.. Да вы только представьте себе такую комбинацию: я и — m-r Праведный… Нечего сказать, примерная пара — свинья с пятиалтынным!..
— Оно и лучше бы, ежели бы в закон вступить, — заметила степенно Василиса Мироновна. — А то не знаешь, к чему тебя и применить: ни ты баба, ни ты девка…
— Этого, Василиса Мироновна, я и сама не знаю, к чему себя применить… Теперь вот по старой вере хочу пойти, кануны говорить стану по покойникам да неугасимую читать.
— Не таранти языком-то!.. Больно он у тебя востер… Еще покойничек Калин Калиныч как бывало жалился на тебя за язычок-от!
— Да, да… Я его до слез даже доводила, — припоминала Евмения с задумчивой улыбкой. — А знаете, — прибавила она, — какой удивительный случай со мной вышел… Как я узнала, что отец умер, мне вдруг так сделалось его жаль, что и рассказать не умею. Дня три проплакала, а потом не могу его забыть, и кончено… Я только теперь его оценила… Знаете, я отдала б бог знает что, чтоб увидеть его еще раз! Глупа была, — не понимала отца… А тут как посравнила с другими людьми, с этими разбойниками, — ну, тогда и опомнилась. Ведь славный был старик, да?.. Честная, хорошая душа… Я, право, так люблю его теперь, как никогда не любила. В нем была эта евангельская чистота сердца и, понятно, совсем особенная незлобивость, кротость, любовь к людям…
Понемногу Евмения разговорилась, по обыкновению быстро перескакивая с одного предмета на другой и постоянно меняя тон. Но печальные ноты так и проскакивали в этом неровном разговоре, а оригинальное лицо освещалось какой-то недоверчивой улыбкой. В своем странном костюме Евмения была сегодня особенно оригинальна; она это чувствовала и, кажется, немного стеснялась.