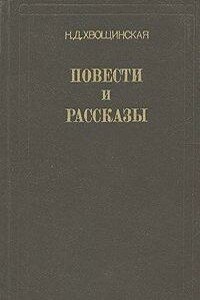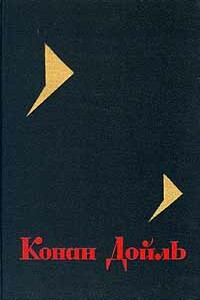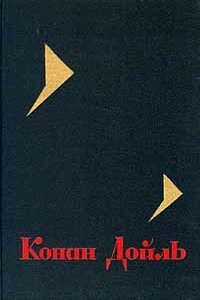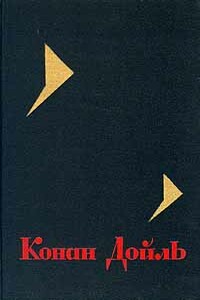Попыхивая клубами темного дыма и рассыпая искры, двинулся локомотив по новой дороге; я долго сидел у окна и любовался еще незнакомыми мне видами, которые мелькали по сторонам. Дорога проходила по широкой низменности, заросшей глухим лесом, и только по мере приближения к главной массе Уральского хребта на горизонте, с правой стороны, начинали выясняться в туманной дали силуэты гор. Как известно, горные кряжи представляют из себя подобие сороконожки, причем главная масса горного кряжа представляет тело этого насекомого, а отроги и побочные разветвления — ее ноги. Обыкновенно железные дороги стараются провести горными долинами, которые образованы разветвлениями горного кряжа, а затем уже, для перевала через главную горную массу, выбирают какой-нибудь удобный проход или пробивают тоннель, или, наконец, прибегают к высоким подъемам и крутым спускам. Инженеры, строившие железную дорогу через Урал, повели ее не горными долинами, а прямо по гребню одного разветвления горной массы, так что перевал через самый кряж не представлял уже упомянутых выше затруднений и почти совсем незаметен.
Собственно, хороших и интересных видов совсем не попадалось; мимо нас мелькали высокие насыпи, глубокие лога, болота, усеянные пеньками, правильными кучками хвороста и поленницами дров, да иногда поезд с глухим грохотом катился по каким-то длинным коридорам, вырубленным в каменной почве. Общее впечатление от Уральских гор было очень неопределенно и на непривычного человека должно было наводить невольную тоску. Нужно с детства привыкнуть к этой незавидной серенькой природе, чтоб от души любоваться ее скромными красотами: невысокими горами, сплошь покрытыми хвойным лесом, глубокими горными долинами с говорливою речкой на самом дне да высоким прозрачным голубым небом, с которого волнами льется свет на эти незамысловатые картины природы. Глаз невольно отдыхает на темной зелени бесконечного леса, и в душе пробуждается сильное освежающее чувство покоя, которым живет все кругом.
От станции Привал до Старого завода было верст тридцать, которые нужно было проехать на лошадях проселочного дорогой. Через полчаса я уже сидел в легком плетеном коробке, который бойко катился по убитой дороге. День был ясный, солнце пекло, из лесу так и обдавало душистым паром. Дорога слегка пылившею лентой извивалась между гор. Попадались пролески из берез и липняку, только что развернувших свою зелень. Коробок слегка покачивал, и хотелось ехать в нем все дальше и дальше; сладкая, неотвязная дремота кружила голову, но мысль работала, поднимая старые воспоминания, забытые сиены, дорогие лица… Хорошо, чудно хорошо на Урале весной, в начале мая, когда все в природе спешит развернуть свои силы и жадно ловит каждую минуту короткого северного лета.
Вот вдали мелькнули домики Старого завода и красиво вырезались на зеленом фоне леса силуэты церквей. Я издали узнал стоявшую на пригорке новую церковь, выстроенную в память 19 февраля; постройки все были закончены, леса сняты, и красивое здание стояло, как невеста, блестя громадным куполом, обитым жестью. Ямщик крикнул на лошадей, обдало облаком пыли, смешались спицы в колесах, и коробок вихрем полетел по широким улицам Старого завода, к гостеприимным дверям «Магнита».
Я занял номер и попросил умыться, а через пять минут знал уже последние новости Старого завода, которые главным образом вертелись около приезда архиерея, ехавшего в Старый завод святить новую церковь, которую, как оказалось, достраивал не Калин Калиныч, а Гвоздев. После небольшого отдыха я отправился навестить Калина Калиныча и нашел его избушку без особенного труда. Во дворе было совсем пусто, и навстречу не выбежала даже хромая собака, которую я видел в последний раз у Калина Калиныча; ветхое крыльцо покосилось совсем на одну сторону, на лестнице недоставало нижней ступеньки, в крыше светилась большая дыра. Войдя в темные сени, я долго искал ручку у двери, напрасно ощупывая бревенчатые стены руками.
— Кто там, крещеный? — послышался голос Калина Калиныча из избушки, когда я, наконец, отыскал железную скобку.
Отворив дверь, я увидел самого Калина Калиныча: он лежал на широком диване, прислоненном к дощатой перегородке. Я не сразу узнал его: лицо было по-прежнему круглое, но совсем желтое и под глазами обрисовывались темные круги. Старик лежал на диване ногами к двери и при моем входе с трудом приподнялся на своей подушке.
— Ах, батюшки… Господь гостя послал!.. А вы уж извините меня, старика, — заговорил старик слабым голосом, стараясь улыбнуться. — Подняться-то не могу совсем… Хворь одолела! Да как вы надумали навестить-то меня!.. А я уж скучаю, пожалуй, один-то… Венушка-то моя уехала ведь в Петербург, ей-богу-с!.. Вот уж два года, почитай, будет, как я остался один-одинешенек… Как здоров-то был, так оно ничего, а прихворнулось, так иногда и тоска возьмет… Все под богом ходим!.. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, — говорить-то мне трудно стает-с.
На маленьком столике у самого дивана лежала разогнутая старая книга в кожаном переплете, которую Калин Калиныч, очевидно, читал пред моим приходом и теперь осторожно закрыл.