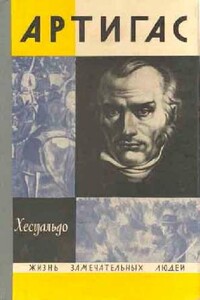В дни войны: Семейная хроника - [82]
Мы обжились с Катей в Кисловодске. Очень привыкли к жизни вдвоем в комнате дома с крутыми каменными ступенями. Возвращались с занятий поздно. На кухне был всегда страшный беспорядок — все было заставлено банками, бутылками, кастрюлями, мытыми и немытыми. На столе, на стульях, на полках, на плите — везде что-то стояло, сохло, тухло. Мы решили с Катей не стряпать: есть утром и вечером простоквашу с хлебом и только днем, в какой-нибудь столовой горячее. Мы так и поступали: рано утром по очереди бегали на базар за ряженкой и хлебом, чтоб позавтракать перед занятиями.
Как работал институт финансово, я не знала. Мы так привыкли, что государство все оплачивает, что по молодости не задумывались, как же теперь, без государства работает большой институт? Быть может, профессор Шаак, теперь директор института, получил от немцев какие-нибудь субсидии? Если да, то этим Шаак подписал себе смертный приговор — такого наши ему не простят! Так или иначе, но институт действовал. Читались лекции, студенты приходили на занятия и в клиники. Катя ходила на операции — оперировал Шаак. Для группы, в которую зачислили меня, хирургия была предметом следующего семестра. У нас было много часов микробиологии, лекции профессора Космодамианского. Во время лекции он рассказывал, забывшись, о своих студенческих годах в Германии, о приезде опять в Германию уже врачом из Петербурга, о жизни в Германии, о ее городах. Мне было за него страшно: столько лет хранил он в тайне свои секреты — простые и милые, полные человеческого тепла. А для нашей власти это была связь с заграницей, за которую жестоко карали. Космодамианский, почувствовав свободу, стал воспоминаниями делиться с нами, на лекции. В его возрасте он знал и помнил, что такое свобода: и думать, и чувствовать, и говорить все что думается — и легко вернулся к простому человеческому бытию, оно-то и было для него нормальным. А для нас, никогда не испытавших ни на людях, ни в школе, ни в институте этого чувства свободы (живу как понимаю, без оглядки на «не пришили бы мне статью» за то, что я думаю так, а не иначе), всегда на людях бывших осторожными и начеку, это было пугающе новым!
Наш заботливый декан сохранил и спас, записав опять в институт, всех студентов-евреев. Мы очень за это стали его не только любить, но и почитать. Очень радовалась за приятельницу покойного Юли Венделя — Мусю Хайкину, у нее была очень заметная внешность, но декан ей фамилию переделал и спас ее этим.
Катина группа занималась практикой в клиниках. Целыми днями она теперь пропадала в больнице. Присутствовала на операциях, при обходе больных и раненых и возвращалась в нашу комнату с сияющими глазами, восхищенная, радостная и с порога начинала рассказывать об интересных случаях и событиях дня. Моя группа должна была начать клинику за неимением мест в больнице только в январе. Ходили пока на лекции, пытались записывать все, что читалось, книг и учебников не было. Никто нас не пугал предстоящими экзаменами — о них просто никто не думал. Практические занятия были не на высоте. Помню, на занятиях по патологической терапии молодая самоуверенная местная докторша должна была демонстрировать опыт с перевязыванием сосудов на собаке. Все было готово для операции. Помощники докторши в белых халатах и колпачках на голове ждали. Служитель привел в зал веселую собаку с высунутым розовым языком, белую с черными пятнами, хвост кренделем. Она сама вскочила на стол и, пока докторша объясняла суть операции, смотрела на нее, на нас и помахивала хвостом. Потом ей дали наркоз и, когда она успокоилась, началась операция: докторша что-то резала, что-то тянула, что-то зашивала и все приговаривала — объясняла, что и для чего она делает. Потом закончила, но мы только смотрели на белого барбоса и плохо слушали. А он все не просыпался. Докторша его потихоньку подталкивала, потом стала трясти — пес не просыпался. Ее охватило беспокойство — служитель вдруг громко и грубо сказал ей «на ты»: «Не тряси — не видишь, штоль, что он сдох!»
Мы все молча ушли домой — так жалко было веселого пса и так стыдно и больно за невежественность докторши.
После первой недели нашей жизни в Кисловодске мы с Катей шли домой пешком с рюкзаками за спиной. Шли по тропиночке, вдоль единственного шоссе, соединяющего Кисловодск и Ессентуки. Наступила холодная ветреная осень. Тропинка то поднималась к шоссе, то спускалась к Подкумку. Мы вышли сразу после занятий, но когда стали приближаться к Ессентукам — измученные, со стертыми ногами — наступила ночь. Семейства наши не спали, очень беспокоились о нас — все может случиться в военное время на длинном пути. Мы знали, что если б мы шли не по тропинке, а по самому шоссе, мы бы скорее дошли до дома и идти было бы легче. Но мы пока не рисковали пользоваться шоссе — мы чувствовали себя более защищенными на тропинке среди кустов и деревьев.
Осень становилась все холоднее, в парке уже давно никто не занимался, было пусто и ветер мел по аллее сухие листья. И в квартире у хозяйки было тоже холодно — она топить не собиралась. Во вновь открытых кафе и столовых было полно народу. В некоторых столовых-ресторанах, более дорогих, играла музыка: когда мы проходили мимо, из отворяющихся дверей слышны были звуки вальса и кто-то пел гортанным голосом. Везде было много немцев — и на улицах, и в кафе. У немцев были, конечно, свои рестораны, в наших бывших отелях-санаториях, где они жили, но они любили смешиваться с местным населением, разговаривать, знакомиться — очевидно, далеко от своей страны, в войне, они стремились к иллюзии мирной жизни. Мы с Катей иногда между лекциями заходили в кафе — выпить кофе с булочкой, на большее у нас не было ресурсов, и согреться. Раз, когда мы уже выпили кофе, проглотили булочку, но все еще не уходили — было так тепло, к нашему столику подошел официант и протянул мне подносик, на котором лежал сложенный лист бумаги, и сказал, что это мне письмо. Мы с Катей удивились и не поняли — какое письмо? Откуда? И без конверта? А лакей сладко заулыбался: «От немецкого офицера — он просит разрешения с Вами познакомиться». И, правда, издали стала кланяться нам довольно красивая фигура немца с усиками. Мы с Катей, метнув на него сердитые и, наверное, испуганные взгляды, снялись с места и помчались к выходу. И потом еще долго бежали, оглядываясь. А, успокоившись, смеялись над западноевропейской «дикостью». Но в кафе мы больше не ходили, да к тому времени и денег больше не было на излишества, и мы жили на ряженке, хлебе и еде, которую несли в рюкзаках из дома, как правило, винегрет из овощей Промсельхоза.
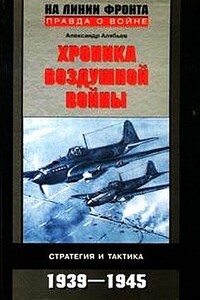
Труд журналиста-международника А.Алябьева - не только история Второй мировой войны, но и экскурс в историю развития военной авиации за этот период. Автор привлекает огромный документальный материал: официальные сообщения правительств, информационных агентств, радио и прессы, предоставляя возможность сравнить точку зрения воюющих сторон на одни и те же события. Приводит выдержки из приказов, инструкций, дневников и воспоминаний офицеров командного состава и пилотов, выполнивших боевые задания.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.