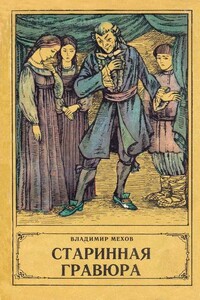Узник гатчинского сфинкса - [14]
— О, Святая Тереза! — простонал Соколов.
— Казалось бы, лучше встать, закричать, объявиться: ведь лежачего тем паче вмиг, как вепря, разорвут. Нет же. Сам не знаю, как и почему, но только еще плотнее завернулся я в мокрую шинель свою и ни жив ни мертв предался воле божией.
Погоня прошла мимо.
Стемнело, когда я, полуобезумевший от страха, голода и холода, горящий в лихорадке — видно, что еще ранее я простудился, — дотащился до берега Двины, зачерпнул шляпой воды, напился. Присел на черный обрубок топляка. По средине реки шли плоты. На одном даже горел костер, откуда слышался женский смех и перебор гитары.
Эх, чтобы я ни дал, чтобы только очутиться бы среди этих вольных плотогонов!..
Долго говорить, как это мне удалось, однако к полуночи я подошел к Штокманнсгофу, где в то время жил господин Байер, человек с твердыми правилами и весьма порядочный. Я хорошо знавал его дочь, госпожу Левенштерн, а потому и рассчитывал на гостеприимство Байера.
— Верно, не обманулся?
— Да, приняли. Правда, все уже спали… И как ни был я утомлен, однако же от меня не укрылось, что старик Байер был изрядно смущен и озадачен. А тут и жена его приняла во мне живейшее участие… Пока я ужинал и прислуга щедро меняла тарелки с кушаньем, мы почти что договорились: они соглашались скрыть меня на время у себя в поместье.
— Ах, как хорошо! — с детским простодушием воскликнул Соколов.
— В мире больше зла, чем мы полагаем, милый Ванюша. Во флигельке во дворе мне приготовили постель, и я было совсем уже собрался идти на покой, как в эту минуту в комнату вошел довольно-таки бодрый человек средних лет, весьма учтивый, с подчеркнутыми манерами хладнокровного злодея и вместе с тем самой неприметной физиогномией. Хозяин-добряк, приметил я, будто немного растерялся даже при виде незваного гостя, но тут же поспешил представить его мне.
— Это господин Простениус из Риги, один из наших хороших друзей, — со свойственной ему сердечностью, сказал Байер.
Простениус молча поклонился мне с какой-то неопределенной улыбкой, вернее — ухмылкой, которая как застряла, так и не хотела сходить с его тонких, извивающихся губ.
Как бы между прочим, с той же любезнейшею манерой он мне поведал, что днем ныне сюда приезжал Щекотихин и обедал тут, и что сотни крестьян меня ищут по всем соседним лесам и дорогам, и что сам он уехал в Ригу.
Этот Простениус проводил меня до флигеля и, когда я уже взялся за ручку входной двери, вдруг спросил:
— Почему вы страшитесь Тобольска?
— Помилуйте, о чем вы говорите?!
— Туда же ссылают порядочных людей, вы найдете там прекрасное общество!
Я остановился, молча и прямо посмотрел в глаза этому иезуиту, который сладенько улыбался и кланялся мне, желая спокойной ночи.
Ночь и правда была покойна. Треволнения последнего времени до того измочалили мое тело и душу, что я не помнил себя. А когда пробудился, когда вспомнил, что стряслось со мною накануне, — ужаснулся. Именно тогда-то ко мне в комнату и прибежала та самая девушка, что ночью открывала мне дверь за́мка. Она сунула мне вот этот мешок. «Скорее наденьте его, тут сто рублей, их посылает моя госпожа… Вам они понадобятся, так как все наличные при вас деньги у вас отберут», — и убежала.
Вот, милый Ванюша, что заключено в этом холщовом мешке. Я и теперь не расстаюсь с ним. А вдруг?
— Выходит, что вас выдали?
Коцебу не ответил. Какое-то время он, закрыв глаза, молча лежал на спине. Соколов, также откинувшись навзничь, лежал подле.
— Мне особливо запомнилось это утро. Особливо! В нем было что-то… нетленное, вечное, непреходящее. Едва только девушка вышла от меня, я немного помедлил, потом тоже вышел, остановился на высоком крыльце. Утреннее солнце освещало крутые и мокрые черепичные крыши замка с красным неподвижным флюгером на коньке. На сырых дорожках парка по-хозяйски, как куры, расхаживали вороны. У коновязи стояли распряженные дрожки, на которых сидел Щекотихин и выстукивал стеком по высоким голенищам сапог какой-то военный марш. Он тотчас же увидел меня, поклонился, я ответил ему. В ту же минуту он соскочил с дрожек и направился ко мне. Но вдруг вижу, что он идет не ко мне, а к толпе крестьян, сидевших вокруг моего флигелька. У каждого из них в руках была большая дубина, какою по обыкновению пользуются деревенские пастухи.
«Боже мой, — подумал я, — какая честь: оказывается, я почивал под охраной этого темного воинства!»
Щекотихин начал раздавать им десятирублевые ассигнации.
А девушка оказалась права. Перед самым выездом из Штокманнсгофа Щекотихин самолично и бесцеремонно обследовал все мои карманы. Выгреб все, что в них было, даже сломанную булавку от галстуха изволил изъять. Когда я садился в экипаж, в одном из окон я увидал улыбающуюся физиогномию Простениуса. Он соизволил милостиво помахать мне белою рученькой…
ВАРВАР ЩЕКОТИХИН
На другой день эта неприметная серая мышка — Ванюша Соколов едва только проскребся к своему адвентуристу, поспешил спросить:
— Свет мой Федор Карпыч, думал вот я, думал… Вы вчерася сказывали, как снова словили вас. Ну, так а Щекотихин-то что?
Коцебу по обыкновению в эти предобеденные часы делал свой, ставший уже для всех привычным, часовой променад вдоль Тобола. Вот и на сей раз он был в своем неизменном халате и в кожаных туфлях с медной бляшкой на крутом взъеме, а в левой руке еще подымливала трубка с толстым и длинным палисандровым мундштуком.

Роман основан на реальной судьбе бойца Красной армии. Через раскаленные задонские степи фашистские танки рвутся к Сталинграду. На их пути практически нет регулярных частей Красной армии, только разрозненные подразделения без артиллерии и боеприпасов, без воды и продовольствия. Немцы сметают их почти походя, но все-таки каждый бой замедляет темп продвижения. Посреди этого кровавого водоворота красноармеец Павел Смолин, скромный советский парень, призванный в армию из тихой провинциальной Самары, пытается честно исполнить свой солдатский долг. Сможет ли Павел выжить в страшной мясорубке, где ежесекундно рвутся сотни тяжелых снарядов и мин, где беспрерывно атакуют танки и самолеты врага, где решается судьба Сталинграда и всей нашей Родины?

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
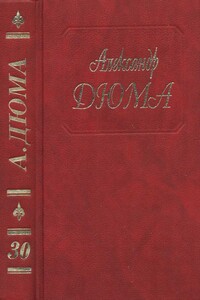
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
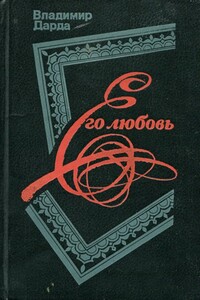
Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.
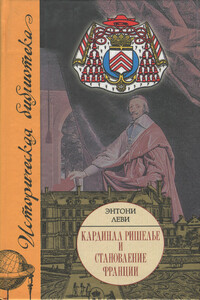
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.