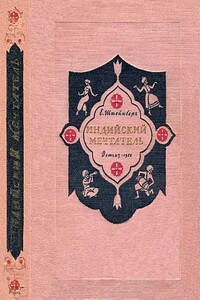Утренняя звезда - [13]
— От картин человеку удовольствие. Веселую картину посмотрит — радуется, печальную — горюет.
— От горести какое ж удовольствие? — заметил крестьянин. — М-да!.. Непонятно! Вот, скажем, святая икона. Она спасителя изображает, матерь божью, святых угодников. Чтоб на нее молиться. Понятно! А другие картины зачем? Ну, меня станешь малевать или лес, поле, речку. Это и так всякому видно. Дуньку мою барин Александр Петрович вытребовал для тиятру. Знаю я это, лет десять назад такие представления здесь делали. Господские забавы! Чудно мне! Люди почтенные, умные, словно ребятишки, тешатся! То игрища, то картины.
— Не одни только господа, — возразил художник. — Тебя как звать-то?
— Кузьма Дударев.
— А по батюшке?
— Отца Григорием звали.
— Так вот, Кузьма Григорьевич… Я ведь не барин. Тоже из мужиков.
— Чего? — переспросил изумленный хозяин. — Как так?
— Отец мой, Алексей Ерменев, в государственных крестьянах состоял. Взяли его к царскому двору конюхом. Еще при покойной императрице Елизавете Петровне… Вот и рос я в царском дворце, с самим цесаревичем, Павлом Петровичем, игры игрывал.
— С кем?
— Наследником, сыном нашей царицы.
— И каков же он?
— Мальчиком был не зол. Только вспыльчив и своеволен.
— Ну да, как есть он — царское дитя… — Кузьма почесал затылок. — А ты, значит, конюхов сын? И с царским вместе?.. Чудно!
— Пока детьми были. Чтоб ему одному не скучно… Учили меня всякому, даже французскому языку.
— Опять же непонятно! — сказал Кузьма. — С царевичем запросто, а картинки малюешь. Зачем?
— Затем, что люблю я это дело. И не я один. Есть еще живописцы из деревенских. Сыновья крепостных…
— Чудно! — задумчиво повторил Кузьма.
… Вечером, сидя за ужином, Ерменев рассказывал об этой беседе.
— А ты чего ждал? — пожал плечами Сумароков. Мужики наши невежественны, тупы.
— Невежественны — это так. Но тупости в нем не заметно.
Сушков подтвердил:
— Кузьма Дударев мужик сметливый. Пожалуй, чересчур. Продувная бестия!
Живописец продолжал, как бы не слыша замечания управителя:
— Он прекрасно понимает, что господский дом не только прочен, но и красив. И умеет отличить хорошо написанную икону от скверной мазни. Стало быть, не в тупости дело. Просто для него картины, статуи, театр — пустое баловство. Забавы барские, затеянные от безделья.
— Ахти, какая беда! — воскликнул Сумароков насмешливо. — Кузьме Дудареву, вишь, цветы парнасские не по вкусу! Словно для него они припасены.
— Для кого же? — спросил Ерменев серьезно.
— Для людей образованных, сударь. Вот для кого!
— А много ли таких в нашем отечестве?
— Мало! — крикнул Сумароков с досадой. — Очень мало!.. Вот и надлежит умножить.
— Да как? — В голосе Ерменева послышалась свойственная ему страстность. — Как этого достигнуть?
— Просвещением! — ответил поэт. — Не из мужиков ли вышел Михайла Ломоносов? Из мужиков! Из самых диких, поморских! Да ведь и ты, Иван, тоже не дворянской крови.
— Капля в море! — усмехнулся Ерменев.
— Я и говорю: надо, чтобы было побольше. Сие во многом зависит от нас самих. Долг повелевает нам просвещать и обучать крестьян. Ибо кто таков помещик, как не отец и попечитель вверенных ему людей?
— Ох, Александр Петрович! — вздохнул художник. — Не поздоровится от такого попечения. Торгуют мужиками, словно скотом, истязают их нещадно…
— У меня, сударь, никого не истязают! — строго прервал Сумароков.
— Я про вас и не говорю.
Сумароков, помолчав, сказал:
— Не спорю, есть среди нас изверги, потерявшие облик человеческий. В семье не без урода… Только их по головке не гладят. Вон Дарью Салтыкову, помещицу, за мучительство крепостных велено дворянства и имения лишить, в яму на цепь посадить на всенародное поругание… Слыхал небось?
— Слыхал, — ответил Ерменев. — Однако не заблуждайтесь. Покарав одного-двух тиранов, тиранства не истребишь. Вы сказали; помещики обязаны просвещать крестьян. Да куда им, коли сами грубы, дики! Невежд полным-полно и среди столичной знати. Каково же провинциальное дворянство?
— Что верно, то верно! — подтвердил Сумароков. — Нравы у нас варварские… И я горжусь, что сочинениями моими способствую их умягчению… Разве не так?
— Так, Александр Петрович, — подтвердил художник.
— И не одними сочинениями! Учу мужицких детей искусству театральному. Вот чудодейственное средство, просвещающее умы, облагораживающее души!..
Ерменев хотел было что-то возразить, но поэт уже несся дальше на крыльях стремительной своей фантазии.
— Знаешь ли, что я задумал? Открою новый театр… В Москве! Свой собственный! Чтоб не зависеть от торгашей, не кланяться вельможам… Актеры сыщутся, только кликни клич! Многие из прежних моих питомцев не задумаются оставить императорскую сцену, коли Сумароков позовет… Да еще новые явятся, молодые! Отсюда Дуню повезу! Может, еще кое-кого найду… То-то будет сюрприз синьору Бельмонти! Накось, выкуси, мошенник!
Он быстро зашагал из угла в угол, жестикулируя и брызгая слюной. Расстегнутый кафтан был осыпан табаком, глаза сверкали из-под густых седоватых бровей. Голос то поднимался до фальцета, то переходил в хриплый шепот, на лице блуждала улыбка, похожая на гримасу.
— Помещение приличное надобно, — продолжал Сумароков. — Что ж, сниму у кого-нибудь. Свободных домов в Москве немало: одни владельцы в Питере, при дворе, другие в поместьях своих живут… А нет, сам выстрою. Отчего не выстроить? Даже лучше будет! Подмостки просторные, машины подъемные, декорации всевозможные… Громовые тучи, горные вершины, виды морские, замки да храмы!.. — Он посмотрел на Ерменева и вдруг, хлопнув ладонью себя по лбу, воскликнул: — Погоди! Да ведь ты, Иван, архитектор, баженовский помощник. И живописец к тому же! Вот вместе с тобой и воздвигнем театр… Поможешь мне, не так ли? А, Иван?..

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Повесть о рыбаках и их детях из каракалпакского аула Тербенбеса. События, происходящие в повести, относятся к 1921 году, когда рыбаки Аральского моря по призыву В. И. Ленина вышли в море на лов рыбы для голодающих Поволжья, чтобы своим самоотверженным трудом и интернациональной солидарностью помочь русским рабочим и крестьянам спасти молодую Республику Советов. Автор повести Галым Сейтназаров — современный каракалпакский прозаик и поэт. Ленинская тема — одна из главных в его творчестве. Известность среди читателей получила его поэма о В.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.