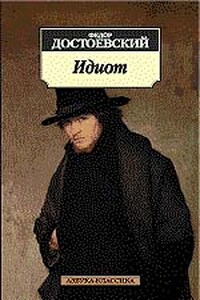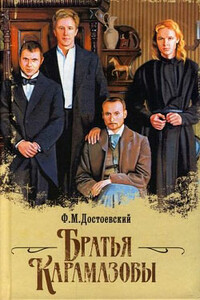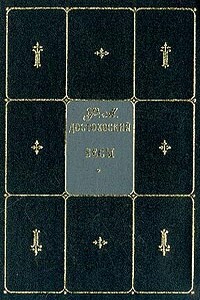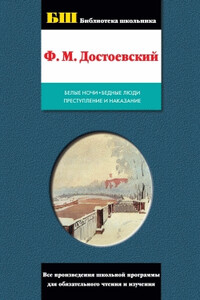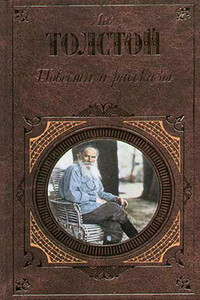– А об чем же вы говорили?
– О мамаше... о Бубновой... о дедушке. Он сидел часа два. Нелли как будто не хотелось рассказывать, об чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать все от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтоб застать Нелли одну. «Для чего ему это?» – подумал я.
Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зеленых и красных бумажках, прескверные и, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их.
– Что ж ты их не ела? – спросил я.
– Не хочу, – отвечала она серьезно, нахмурив брови. – Я и не брала у него; он сам на диване оставил...
В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли.
– Скучно тебе одной? – спросил я ее, уходя.
– И скучно и не скучно. Скучно потому, что вас долго нет.
И она с такою любовью взглянула на меня, сказав это. Все это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такою веселенькою, такою ласковою, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и... и слишком высказаться, точно стыдясь этого.
– А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе «и скучно и не скучно»? – спросил я, невольно улыбаясь ей, так становилась она мне мила и дорога.
– Уж я сама знаю чем, – отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другою пощипывая мне рукав сюртука.
– Что ж это, секрет? – спросил я.
– Нет... ничего... я – я вашу книжку без вас читать начала, – проговорила она вполголоса и, подняв на меня нежный, проницающий взгляд, вся закраснелась.
– А, вот как! Что ж, нравится тебе? – я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы бог знает что дал, если б мог в эту минуту поцеловать ее. Но как-то нельзя было поцеловать. Нелли помолчала.
– Зачем, зачем он умер? – спросила она с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза.
– Кто это?
– Да вот этот, молодой, в чахотке... в книжке-то?
– Что ж делать, так надо было, Нелли.
– Совсем не надо, – отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг, отрывисто, чуть не сердито, надув губки и еще упорнее уставившись глазами в пол.
Прошла еще минута.
– А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок, – шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав, – что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?
– Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, – отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.
– Ну, вот... Вот! Вот как это! У, какие!.. Я и читать теперь не хочу!
И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения.
– Полно, Нелли, ты рассердилась! – начал я, подходя к ней, – ведь это все неправда, что написано, – выдумка; ну, чего ж тут сердиться! Чувствительная ты девочка!
– Я не сержусь, – проговорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд; потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и отчего-то заплакала.
Но в ту же минуту и засмеялась, – и плакала и смеялась – все вместе. Мне тоже было и смешно и как-то... сладко. Но она ни за что не хотела поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча, она все крепче приникала к нему и все сильнее и сильнее смеялась.
Наконец кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились; я спешил. Нелли, вся разрумянившаяся и все еще как будто пристыженная и с сияющими, как звездочки, глазками, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше.
Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсем больная; Николай Сергеич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что по обыкновению своему он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтоб дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем вечере, но высказал правду; к удивлению моему, старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва.
– Ну, батюшка, так я и думала, – сказала она. – Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у господа бога, да и человек-то такой подлый; можно ль от него добра ожидать. Шутка ль, десять тысяч с нас задаром берет, знает ведь, что задаром, и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает; продадут Ихменевку. А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. Да знаете ль вы еще, батюшка, – продолжала она, понизив голос, – мой-то, мой-то! Совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал: не хочу, говорит! Я сначала думала, что он блажит; нет, взаправду. Что тогда с ней-то будет, с голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. Ну, а тот-то, Алеша-то, он-то что?