Ученица начального училища - [2]
— Смучилъ меня, дяденька, ребенокъ… Поколотите чѣмъ-нибудь въ стѣну пошибче. Авось, онъ испугается и уймется. Онъ у насъ стуку всегда боится.
Кучеръ взглянулъ на Маню, скосивъ глаза, и воскликнулъ:
— Поди ты, чортова перечница, къ лѣшему подъ халатъ! Мнѣ и свои ребята надоѣли, а тутъ еще чужого унимай. Уходи! Брысь! Вишь, еще что выдумала. Стану я передъ чужимъ ребенкомъ шута разыгрывать — и онъ топнулъ на нее ногой и показалъ ей кулакъ.
Уже совсѣмъ было темно, когда Маня принесла ребенка домой.
— Что рано? Куда лѣзешь? — закричала на нее мать, стиравшая при свѣтѣ жестяной лампочки въ корытѣ. — Пошла назадъ! Я вѣдь сказала тебѣ, чтобы ты по двору ходила.
— Холодно, маменька, на дворѣ, да и уснулъ Митька, угомонился, — отвѣчала Маня.
— Угомонился? Ну, положи его на постель за занавѣску. Перемѣнить-бы у него пеленку надо — ну, да ужъ благо, что спитъ. Полежитъ и мокрый. А сама иди въ лавочку и возьми три фунта хлѣба къ ужину да три луковицы. Хлѣбъ-то весь давече сожрала. Иди…
— Уроки… Молитву, маменька, надо учить. Батюшка велѣлъ… — заикнулась было Маня.
— Успѣешь. Послѣ лавки будетъ время… — перебила ее мать. — Мнѣ-же не разорваться самой… Вотъ достирать надо.
Маня отправилась въ лавку и черезъ нѣсколько времени вернулась съ закупками. Мать прополаскивала въ корытѣ бѣлье.
— Наложи подъ таганъ щепочекъ на шесткѣ. Кофейку сварить, что-ли, — отдала она приказъ Манѣ.
— Мнѣ, маменька, уроки, молитву…
— Охъ, ужъ мнѣ это ученье! Одно наказаніе! Дѣлай, что тебѣ приказано! Растопи таганъ на шесткѣ.
Маня повиновалась. Запахло дымомъ горящихъ щепокъ.
Только подъ вечеръ передъ ужиномъ усѣлась Маня при свѣтѣ жестяной лампочки учить молитву. Заткнувъ уши пальцами отъ шума у сосѣдей, смотрѣла она въ книгу, положенную на столѣ, и шептала слова заданной къ выучкѣ молитвы, какъ пришелъ съ фабрики сожитель матери Петръ Митрофановъ. Онъ былъ уже полупьянъ.
— A! Школьница! — воскликнулъ онъ, увидавъ Маню. — Давай мнѣ сюда бумаги на папироску. У меня бумаги нѣтъ.
— Да и у меня нѣтъ, дяденька… — отвѣчала Маня.
— А тетради-то на что? Вырви…
— Запрещаютъ, дяденька. Учительница ругается. Я уже и такъ много вамъ вырывала.
— Ну?! Разговаривать еще! Вырывай!
Петръ Митрофановъ показалъ кулакъ.
Маня повиновалась.
II
Петръ Митрофановъ сидѣлъ въ кухнѣ около стола, разyвшись, и при свѣтѣ маленькой жестяной лампочки разсматривалъ свой сапогъ, ковыряя ножомъ отставшій каблукъ и дымя махоркой. Мать Мани Марѳа Алексѣевна жарила на плитѣ картофель въ салѣ и такъ начадила, что чадъ, смѣшанный съ табачнымъ дымомъ, заставилъ чихать даже пріютившуюся на полкѣ около кофейной мельницы кошку, которая тотчасъ-же убѣжала въ комнату къ жильцамъ Марѳы Алексѣевны, снимавшимъ тамъ углы. За ситцевой занавѣской кряхтѣлъ грудной ребенокъ. Маня, учившая уроки, нѣсколько разъ подсаживалась къ лампѣ, стоявшей передъ Петромъ Митрофановымъ, но тотъ всякій разъ говорилъ ей:
— Ну, чего ты къ ножу-то лѣзешь! Сорвется ножикъ, и я тебя невзначай и нырнуть могу. Сядь къ сторонкѣ.
— Да темно, дяденька, читать нельзя, — отвѣчала Маня.
— Не велика тебѣ нужда и читать-то!
— Выучить приказано къ завтрему.
— Достаточно тебѣ того, что ты въ школѣ учишься. Ты дѣвочка, а не мальчикъ. Куда тебѣ грамоту-то большую? Зачѣмъ? А то на ночь глядя книжки читать!
Маня отодвинулась отъ него и въ полупотемкахъ начала разбирать, бормоча въ полъ-голоса:
— Вонъ оно что… Про птичку какую-то и про гнѣздо. Еще если-бы что путное учить — молитвы или про житіе святыхъ, а то про птичку… — говорилъ Петръ Митрофановъ. — Ну, на что тебѣ птичка съ гнѣздомъ? На кой шутъ, спрашивается?
— Да коли приказываетъ учительница. Какіе вы, право… — пробуетъ возражать Маня.
— Дѣлать ей нечего, этой учительницѣ твоей. Зажралась она въ хорошемъ житьѣ — вотъ и блажить.
— Ужъ и то правда… — отозвалась мать Мани. — Такъ стѣсняютъ дѣвчонку, такъ стѣсняютъ, что просто ужасти. Чуть скажешь: «Манька, бѣги за щепками». «Мнѣ нельзя… Надо уроки учить».
— Да вѣдь бѣгала и за щепками, принесла давеча двѣ корзинки.
— Еще-бы ты не сбѣгала! Коса-то у тебя своя. Чудесно понимаешь, какъ мать тебя гладитъ. Однако, артачилась. Тоже и съ Митькой… Говорю: прогуляй Митьку…
— Ну, да ладно… Брось, Марѳа! Чего тутъ! Надоѣла, — перебилъ Петръ Митрофановъ. — А ты, Манька, сбѣгай-ка мнѣ въ лавку за сапожными гвоздями для каблука. На двѣ копѣйки возьмешь. Вотъ двѣ копѣйки. Спросишь у лавочника гвоздей для каблука. Онъ знаетъ. Вотъ… смотри… вотъ съ такими шляпками…
Маня мялась.
— Я, дяденька, должна еще молитву повторить, потому нашъ батюшка, священникъ… — заговорила она.
— Успѣешь. Долго-ли до лавки добѣжать!
Маня накинула на голову платокъ и приготовилась бѣжать въ лавку.
— Постой… — остановилъ ее Петръ Митрофановъ. — Марѳа Алексѣвна, есть-ли у меня тамъ сколько-нибудь, чтобъ ковырнуть передъ ужиномъ-то?
— Есть, есть. Вчера я сберегла тебѣ въ сороковкѣ… На махонькій стаканчикъ хватить.
— Ну, умница, что сама не вытрескала. Такъ и предпочитай меня всегда. Бѣги, Манька… Водки не надо… хватитъ. А я думалъ заодно ужъ и махонькій пузырекъ….

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых, в Париж и обратно.
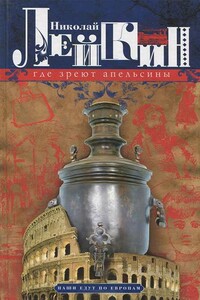
Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».Глафира Семеновна и Николай Иванович Ивановы — уже бывалые путешественники. Не без приключений посетив парижскую выставку, они потянулись в Италию: на папу римскую посмотреть и на огнедышащую гору Везувий подняться (еще не зная, что по дороге их подстерегает казино в Монте-Карло!)

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».В книгу вошли избранные произведения одного из крупнейших русских юмористов второй половины прошлого столетия Николая Александровича Лейкина, взятые из сборников: «Наши забавники», «Саврасы без узды», «Шуты гороховые», «Сцены из купеческого быта» и другие.В рассказах Лейкина получила отражение та самая «толстозадая» Россия, которая наиболее ярко представляет «век минувший» — оголтелую погоню за наживой и полную животность интересов, сверхъестественное невежество и изворотливое плутовство, освящаемые в конечном счете, буржуазными «началами начал».

Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».В книгу вошли избранные произведения одного из крупнейших русских юмористов второй половины прошлого столетия Николая Александровича Лейкина, взятые из сборников: «Наши забавники», «Саврасы без узды», «Шуты гороховые», «Сцены из купеческого быта» и другие.В рассказах Лейкина получила отражение та самая «толстозадая» Россия, которая наиболее ярко представляет «век минувший» — оголтелую погоню за наживой и полную животность интересов, сверхъестественное невежество и изворотливое плутовство, освящаемые в конечном счете, буржуазными «началами начал».

Лейкин, Николай Александрович (7(19).XII.1841, Петербург, — 6(19).I.1906, там же) — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».В антологию вошли произведения русских писателей, классиков и ныне полузабытых: Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, К. К. Случевского, В. И. Немировича-Данченко, М. А. Кузмина, И. С. Шмелева, В. В. Набокова и многих других.
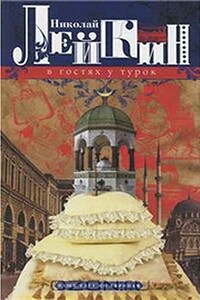
Лейкин, Николай Александрович — русский писатель и журналист. Родился в купеческой семье. Учился в Петербургском немецком реформатском училище. Печататься начал в 1860 году. Сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки», «Искра».Глафира Семеновна и Николай Иванович Ивановы уже в статусе бывалых путешественников отправились в Константинополь. В пути им было уже не так сложно. После цыганского царства — Венгрии — маршрут пролегал через славянские земли, и общие братские корни облегчали понимание.
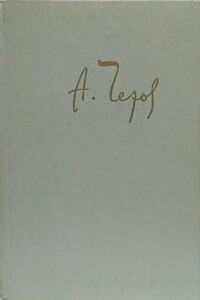
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.