У покрова в Лёвшине - [22]
– Пора и нам убираться, – сказал Зашибин Невзорову. – Отдай назад свои листки.
Невзоров заметил, что некоторые из студентов побросали взятые ими листки и пачки бумаг. Другие торопливо старались их подобрать и спрятать в печке.
– Не в заслонку! – закричал Шлейер. – В трубу, под вьюшку!
– Что значит все это? – спросил Невзоров.
– Это значит, что нас накроют. Пойдем. Надобно только сперва проведать, свободен ли еще выход на улицу, а то придется перелезать через забор на той стороне двора.
– Нет! – сказал Невзоров. – Через забор я не полезу. Еще бы дать себя поймать, как вора, на заборе!
– Как хочешь – попадайся!
Зашибин вышел, но через минуту вернулся со Змиевым.
– На улицу нельзя, – крикнул Змиев. – Все обставлено. Кот успел нырнуть в лес; но Птичку и Звонарева задержали.
– Всем нельзя уходить! – закричал Шлейер. – Бегун и я – хозяева. Мы должны остаться. У кого есть дух, садитесь за стол.
Сам Шлейер сел и налил себе стакан пива.
– Я остаюсь, – сказал Невзоров и сел подле него. Атаназаров также сел рядом с Невзоровым.
– Барсов, однако же, успел уйти, – сказал Невзоров вполголоса Атаназарову.
– Он всегда успевает, – отвечал Атаназаров. – Впрочем, здесь было нетрудно. У него свой ход. Он имеет ключ от калитки в соседнюю дачу.
– Удивляюсь вашей Птичке, – продолжал Невзоров. – Как могла она проведать обыск и вовремя поспеть сюда, чтобы предупредить?
– Не она проведала, а Щука. Ее прислала Щука, а она взяла с собой Кота, потому что в поздний час побоялась ехать одна, да притом они всегда в компании.
– Но кто же Щука?
– Одна из наших, но постарше Птички. У нее есть свои…
Атаназаров не кончил фразы. Разом послышались с двух сторон приближавшиеся шаги и со стороны улицы и со стороны двора; затем последовали толчок в уличную дверь и требование ее отворить.
– Ступай, Бегун, и отвори, – сказал Шлейер Креницкому.
Креницкий замялся.
– Ступай же, – крикнул Шлейер.
Дверь была отворена, и вслед за тем с двух сторон вошли должностные лица, обыкновенно распоряжающиеся обысками. Капитан, казавшийся старшим распорядителем, вошел со стороны улицы, сопровождаемый институтским инспектором.
– Прошу не трогаться с места! – сказал отрывисто капитан.
Он окинул глазами комнату, потом обратил пристальный взгляд, поочередно, на всех бывших в ней молодых людей, прошел в третью комнату, где никого не застал, возвратился в среднюю, вышел на крыльцо, отдал там какое-то приказание и снова вернулся.
– Г-н Невзоров! – сказал капитан. – Пожалуйте сюда.
Невзоров последовал за капитаном в ту комнату, где никого не было. Капитан затворил за ним дверь.
– Что делаете вы здесь, молодой человек? – спросил капитан мягким голосом и с видом участия. – Кто заманил вас сюда?
Невзоров молчал.
– Впрочем, мне и не нужно этого узнавать от вас. Доведаюсь другими путями; но кто бы то ни был, он грех брал на свою душу. Вы этим господам не под стать; но ваши деньги им нужны. Я знаю вас, и вашего отца знаю. Подумали ли вы о нем? Подумали ли вы о том, каким ударом для него было бы узнать, что вы затесались в какое-нибудь гнусное дело, что вы арестованы, что вся ваша будущность попорчена?..
Невзоров молчал, но судорожное движение в чертах лица и пробивавшиеся в глазах слезы обнаруживали охватившее его волнение.
– Счастье для вас, – продолжал капитан, – что вы именно мне попались под руку. Повторяю, что знаю вас и уверен, что вы, собственно, ни в чем крупном не виноваты, или не успели быть виноватым, и что сегодняшний урок не пройдет для вас без пользы. Обещайте мне сказать о случившемся вашему отцу и быть завтра с ним у генерала в 10 часов утра. Обещаете ли вы?
– Обещаю, – сказал Невзоров.
– Хорошо, дайте руку. Я вам верю. Пойдемте; я вас прикажу отпустить. Но еще раз говорю вам: не забывайте отца.
IX
– Воля ваша, Варвара Матвеевна, – сказал Алексей Петрович, – а я каждый день сожалею о Сокольниках.
– Не знаю, о чем вы можете жалеть, – сказала Варвара Матвеевна.
– О весьма многом, по моему разумению, – продолжал Алексей Петрович. – Во-первых, о том, что мне ближе было ездить на службу; во-вторых, о том, что в сосновой роще воздух и суше, и здоровее; в-третьих, и в особенности, о том, что там жилось так спокойно и тихо. Соседи не те были.
– Чем же вас тревожат здешние соседи? – спросила Варвара Матвеевна. – По обе стороны от нас живут самые почтенные и порядочные люди. Ваш приятель Чугунин недалеко, всего минут пять ходу. И другой приятель, профессор, который, кажется, меня не жалует, но вам по сердцу и с вами так часто рассуждает про газеты, здесь, под рукой, а в Сокольниках вы бы его как своих ушей не видали.
– Это так – но и не они, конечно, мне здесь помехой, а те другие господа, которых я вижу в парке. В Сокольниках и Вера могла одна проходить по ближайшим дорожкам, и я мог с ней обойти весь парк без встреч, которые всегда оставляют по себе неприятное впечатление.
– Не знаю, почему и Вера не могла бы здесь себя считать в безопасности и какие встречи вам так неприятны.
– Если бы в ваших привычках было так много ходить, как я в летнее время хожу, то и вам не доставили бы большого удовольствия частые встречи с косматыми молодыми людьми в странных шляпах и длинных сапогах, с дубинкой вместо трости и с какой-то претензией на неряшество в одежде и на грубость в манерах, например, с привычкой ходить в ряд, занимая всю ширину дорожки и заставляя человека моих лет сворачивать в сторону, или с привычкой заглядывать мне более или менее дерзко в глаза, когда они рассудили мне дать дорогу.

«Грустно! Я болен Севастополем! Лихорадочно думаю с вечера о предстоящем на следующее утро приходе почты. Лихорадочно ожидаю утром принесения газеты. Иду навстречу тому, кто их несет в мой кабинет; стараюсь получить их без свидетелей: досадно, если кто-нибудь помешает мне встретиться наедине с вестью из края, куда переносится, где наполовину живет моя мысль. Развертываю „Neue Preussische Zeitung“, где могу найти новейшие телеграфические известия. Торопливо пробегаю роковую страницу. Ничего! Если же есть что-нибудь, то не на радость.

«Четырнадцать лет тому назад покойный профессор Кавелин, стараясь определить задачи психологии, отозвался в следующих выражениях о тогдашнем направлении человеческой мысли, настроении духа и состоянии общественных нравов в христианском мире…».
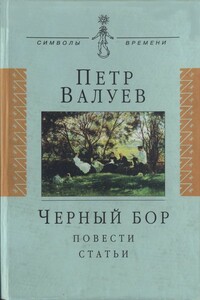
Петр Александрович Валуев (1815–1890), известный государственный деятель середины XIX в., стал писателем уже в последние годы жизни. Первая его повесть — «У Покрова в Лёвшине» сразу привлекла внимание читателей. Наиболее известен роман «Лорин», который восторженно оценил И.А Гончаров, а критик К. Станюкович охарактеризовал как «любопытную исповедь» с ярко выраженной общественно-политической позицией «маститого автора».«У Покрова в Лёвшине» и «Черный Бор» — лучшее из всего написанного Валуевым. В них присутствует простодушный и истинно русский лиризм.

«1 января 1861 г. Утром во дворце. Заезжал два раза к гр. Блудову. Записывался по обыкновению в швейцарских разных дворцов. Все это при морозе в 17°.Обедал у Вяземских. Вечером дома…».

«Два разных потока приобретают в наше время возрастающее влияние в сфере мысли и жизни: научный, вступивший в борьбу с догматическими верованиями, и религиозный, направленный к их защите и к возбуждению интенсивности церковной жизни. С одной стороны, успехи опытных наук, разъяснив многое, что прежде казалось непостижимым, наводят на мысль, что самое понятие о непостижимом преимущественно опиралось на одно наше неведение и что нельзя более верить тому, чему мы до сих пор верили. С другой стороны, практика жизни и всюду всколыхавшаяся под нами гражданская почва возвращают во многих мысль к убеждению, что есть нечто, нам недоступное на земле, нечто высшее, нечто более нас охраняющее и обеспечивающее, чем все кодексы и все изобретения, нечто исключительно уясняющее тайну нашего бытия – и что это нечто именно заключается в области наших преемственных верований.

«Существует целый ряд тягостных фактов, на которые кажется невозможным не обратить серьезное внимание.I. Правительство находится в тягостной изоляции, внушающей серьезную тревогу всем, кто искренно предан императору и отечеству. Дворянство, или то, что принято называть этим именем, не понимает своих истинных интересов… раздроблено на множество различных течений, так что оно нигде в данный момент не представляет серьезной опоры…».

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

