У покрова в Лёвшине - [17]
– Расстаться, и надолго, – все-таки разлука, – тихо сказала Вера.
– Мы свидимся, моя милая, добрая Вера, моя невеста, – я теперь уже смелее вас так называю. Не хочу говорить «прощайте» – говорю «до свидания»!..
Он ее обнял; она смотрела влажными глазами в его глаза. Долгий поцелуй заменил слова прощанья. Ни он, ни она не нашли в себе силы их произнести. Леонин вышел. Вера слышала, как за ним затворилась дверь дома; потом она следила за ним из окна, пока он был виден. Когда он скрылся за изгибом улицы, ею овладели такое глубокое ощущение одиночества и такая безутешная печаль, что она почувствовала холод в сердце и у нее в глазах потемнело. Она опустилась на колени и стала молиться…
VII
Вечерело. Алексей Петрович Снегин проходил по линии дач, устроенных на так называемых Алексеевских новых участках, между сплошным лесом и двумя прудками, окруженными разреженным лесным насаждением. Он остановился перед небольшим домом, который уже несколько раз обращал на себя его внимание. Алексей Петрович не знал жильцов и не осведомлялся о них, но успел заметить, что их привычки не походили на привычки их соседей и обнаруживали такое старание уклоняться от всякого общения и наблюдения, которое в дачной жизни составляет явление довольно редкое. На этот раз в доме были затворены окна, хотя летний вечер был ясный и теплый; занавеси были опущены, хотя еще было светло на дворе, а в комнатах не замечалось огня; дверь со стороны улицы была заперта, хотя в дом входили посетители, для которых доступ, вероятно, был открыт с противоположной стороны. Алексей Петрович видел, как сперва один молодой человек, а затем двое других прошли через узкую боковую калитку в устроенный перед домом садик, потом направились вдоль забора, отделявшего этот садик от соседней дачи, и скрылись за углом дома. Все трое принадлежали, судя по внешнему виду, к студентам Алексеевского института. Четвертый молодой человек, студент Атаназаров с Кавказа, который случайно был знаком с Алексеем Петровичем, раскланялся с ним, проходя мимо дома, но в некотором расстоянии остановился, как будто выжидая, чтобы Снегин удалился. Заметив это, Алексей Петрович пошел далее, но, оглянувшись, увидел, что Атаназаров поворотил назад и быстро проскользнул в ту самую калитку, в которую прежде прошли его сотоварищи.
«Что-то неладно все это», – рассуждал про себя Алексей Петрович, продолжая свою одинокую прогулку по дороге между линий дач и лесом. – Неладно, неладно, – проговорил он вслух, не заметив, что его между тем нагнал вышедший из одной из дач профессор Тишин.
– Что неладно, Алексей Петрович? – спросил профессор.
– Ах, это вы, Семен Иванович, – сказал невольно вздрогнувший Снегин. – Откуда взялись вы так нечаянно? Вы меня просто испугали.
– Вольно вам так погружаться в ваши размышления, – отвечал профессор. – Вы прошли в двух шагах от меня, в то время когда я из той дачи выходил на улицу, и я слышал, как вы повторяли: «неладно, неладно». Что неладно?
– Да так, Семен Иванович; мне всегда кажется неладным, когда люди прячутся. Зачем прятаться, если нет чего-нибудь недоброго на совести или на уме?
– Кто же прячется, Алексей Петрович?
– Все ваши, по-видимому ваши, студенты и прочая в этом роде.
– А где прячутся?
– Да вот в том доме, позади нас, шагов с сотню, рядом с зеленым забором. Я уже несколько раз замечал, что туда входят озираясь, а в доме что-то старательно запирают окна и двери и опускают занавеси.
– Там… – сказал профессор, несколько подумавши, – там точно живут, кажется, двое из наших.
– Но какого сорта? – спросил Алексей Петрович. – Из порядочных, надежных – или нет?
Профессор махнул рукой и ничего не сказал.
– Красноречивый ответ, – заметил Алексей Петрович.
– Трудно дать ответ определительный, – сказал профессор. – Кто надежные, кто ненадежные? Большинство, конечно, хорошо или, по крайней мере, могло бы быть хорошим; но не большинство здесь хозяйничает. Недаром сложилась пословица о ложке дегтя в бочке меда, а у нас не одна ложка этого материала.
– Но ведь в последнее время у вас как-то тише стало.
– Да, на вид как будто затихло; но, думаю, только на вид. Пока под котлом не погашен огонь, как ни подливай по временам холодной воды, вода все-таки снова начинает вскипать, и всегда вскипает снизу, где ближе к огню. На поверхности не шипит. Если недоглядеть, то, пожалуй, вскипит и все, что в котле.
– Но ведь вы же все, начальство и преподаватели, стоите у котла. В вашем интересе гасить огонь. Неужели погасить нельзя?
– Во-первых, наши колосники в связи с другими колосниками. Огонь с них передается на наши. Во-вторых, кочегары между собой не согласны. Одни в огне видят только свет или притворяются, что только его видят, и дрожат при мысли прослыть гасильниками; другие сами не прочь оттого, чтобы огонь не переводился; остаются третьи, на мой лад; но мы друг друга на пальцах одной руки можем пересчитать, и притом даже в своей среде как будто отпеты. Устарели, говорят, несовременны по взглядам, не видим злобы дня, не понимаем насущных потребностей, безучастны к животрепещущим вопросам, равнодушны к интересам, которые волнуют все общество, и прочая и прочая. Вы знаете весь этот ходульный словарь. Поневоле руки опускаются. Если бы можно было, я завтра же распростился бы со всей этой беспорядочной кухней; но уйти нельзя. Мои лекции нужнее моей семье, чем институту и студентам. Я и читаю лекции.

«Грустно! Я болен Севастополем! Лихорадочно думаю с вечера о предстоящем на следующее утро приходе почты. Лихорадочно ожидаю утром принесения газеты. Иду навстречу тому, кто их несет в мой кабинет; стараюсь получить их без свидетелей: досадно, если кто-нибудь помешает мне встретиться наедине с вестью из края, куда переносится, где наполовину живет моя мысль. Развертываю „Neue Preussische Zeitung“, где могу найти новейшие телеграфические известия. Торопливо пробегаю роковую страницу. Ничего! Если же есть что-нибудь, то не на радость.

«Четырнадцать лет тому назад покойный профессор Кавелин, стараясь определить задачи психологии, отозвался в следующих выражениях о тогдашнем направлении человеческой мысли, настроении духа и состоянии общественных нравов в христианском мире…».
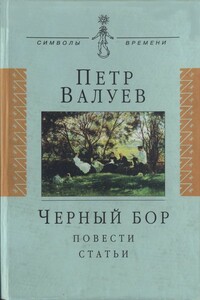
Петр Александрович Валуев (1815–1890), известный государственный деятель середины XIX в., стал писателем уже в последние годы жизни. Первая его повесть — «У Покрова в Лёвшине» сразу привлекла внимание читателей. Наиболее известен роман «Лорин», который восторженно оценил И.А Гончаров, а критик К. Станюкович охарактеризовал как «любопытную исповедь» с ярко выраженной общественно-политической позицией «маститого автора».«У Покрова в Лёвшине» и «Черный Бор» — лучшее из всего написанного Валуевым. В них присутствует простодушный и истинно русский лиризм.

«1 января 1861 г. Утром во дворце. Заезжал два раза к гр. Блудову. Записывался по обыкновению в швейцарских разных дворцов. Все это при морозе в 17°.Обедал у Вяземских. Вечером дома…».

«Два разных потока приобретают в наше время возрастающее влияние в сфере мысли и жизни: научный, вступивший в борьбу с догматическими верованиями, и религиозный, направленный к их защите и к возбуждению интенсивности церковной жизни. С одной стороны, успехи опытных наук, разъяснив многое, что прежде казалось непостижимым, наводят на мысль, что самое понятие о непостижимом преимущественно опиралось на одно наше неведение и что нельзя более верить тому, чему мы до сих пор верили. С другой стороны, практика жизни и всюду всколыхавшаяся под нами гражданская почва возвращают во многих мысль к убеждению, что есть нечто, нам недоступное на земле, нечто высшее, нечто более нас охраняющее и обеспечивающее, чем все кодексы и все изобретения, нечто исключительно уясняющее тайну нашего бытия – и что это нечто именно заключается в области наших преемственных верований.

«Существует целый ряд тягостных фактов, на которые кажется невозможным не обратить серьезное внимание.I. Правительство находится в тягостной изоляции, внушающей серьезную тревогу всем, кто искренно предан императору и отечеству. Дворянство, или то, что принято называть этим именем, не понимает своих истинных интересов… раздроблено на множество различных течений, так что оно нигде в данный момент не представляет серьезной опоры…».

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

