У - [32]
– Нет такого, Леон Ионыч, – ответил вместо Людмилы Ларвин.
– Удивительно! Почему же меня тогда надули на материале? Выходит, что я обязан был его надуть. Просто подлость какая-то. Это меня московское воображение ослепило. У него, непременно у него. Какая, Людмила Львовна, у Жаворонкова специальность?
– Стройматериалы.
– А он переквалифицируется, известно ли вам?
– Подозреваю. У нас часто переквалифицируются. Это же не прежние времена. Да и вы сами намерены нас переквалифицировать, Леон Ионыч.
– Я – другое дело. Я представитель власти.
Я понимаю современных художников, которые борются за свежие формы искусства. Вторжение прошлого слишком ужасно и тягостно, с ним нельзя не бороться. Многотомные классики нет-нет да и просунут в наши книги свои волосатые рты. Но есть такие слова, есть такие выражения, вспомнив которые, начинаешь сомневаться в истребимости старых форм, начинаешь думать: а стоит ли игра свеч? Например, подыщите строчку короче и выразительнее следующей: «Наступило гробовое молчание». Три слова, три банальнейших слова, а какая каша ими заварена! Тут и папироска вывалилась из губ Ларвина, тут и вздыбилась Людмила Львовна, крепко сжав в кулаки белые свои руки, тут и Сусанна второпях одергивает коротенькое платьице, тут и я восхищенно думающий: «Что за проникновенный человек! Эк, закрутил, эк, запрудил!»
И, наконец, Людмила Львовна – раз и навсегда – решила узнать:
– Какой власти?
Черпанов вонзил:
– Снисходительной.
Ларвин вставил папироску обратно. Задымил, вяло вздохнув:
– Не читали о такой.
– Опыт! Опыт! Намек. Разъяснение позже. Взгляд на пакет за девятью печатями, в Манильских островах, – и все поймете. Мазурский показался мне кривым, хотя и упирает все время на нравственность. Я с вами согласен, Людмила Львовна, он втируша. Я с вами, Сусанночка.
– Это мне безразлично.
– Не помните ли вы рассказ одного американского писателя, Сусанночка, я прочел его в поезде.
– Это сестра любит книги, а мне плевать, Леон Ионыч.
– Там, видите ли, удивительным образом субъект попадает в громадный водоворот, километров трех или пяти глубиной, вроде керосинной воронки, но не заполненной жидкостью. По краям этой воронки, непрерывно вращающейся со страшной быстротой, по наклонной плоскости, вроде как бы по дороге, несутся вниз и вниз предметы и корабли…
Людмила сказала:
– Уподобление ваше, Леон Ионыч, было б ценным и даже жутким, кабы вышеупомянутый свидетель не был единственным живым свидетелем воронки и вокруг него не стремились в пучину мертвые корабли, а кроме того, кабы рассказанное не было болезненной фантазией Эдгара… Мы поклонники реализма, Леон Ионыч. Крупная партия овса дороже умения вдергивать нитку словесности в золотую иглу фантазии.
– Кишки, они способствуют закоренелости, – Ларвин стряхнул пепел. – В области искусства, но не продовольствия. Варенье еще один мужчина предлагает, клубничное. А, Леон Ионыч?
Я удалился.
Теперь для меня стала более понятной ночная суетня в коридоре, сверточки, корзинки, чемоданчики из фибры; перешептывания на кухне, постоянное хлопанье дверьми; игра ребятишек на дворе – «в спекуляцию»; они меняли щепки на лопухи, обрезки листового железа на пустые папиросные коробки, карандаши ходили за бревна, спички за карандаши, песок за муку. Какой мощной и загадочной фигурой вставал среди этого человеческого хлама Черпанов, какое нужно умение, чтобы отсортировать для себя необходимое и выкинуть на свалку дрянь. Любопытно, как он понимал Сусанну? Присвоит ли он ее себе или ограничится болтовней? А бедный простодушный доктор! Я не нашел в себе достаточно сил рассказать ему о Сусанне и о всем, слышанном мною, я питал нежность к этому избитому, покрытому синяками болтуну, – да и кроме того, после публичного признания Черпанова, разговор наш приобретал почти государственное значение. То, к чему я раньше относился почти как к шутке, вставало теперь передо мной сложнейшей секретарской обязанностью. Я выразил свою нежность доктору тем, что принес из столовой стадиона суп в чайнике и две заржавелые котлеты. Вливая в себя суп, доктор расспросил меня о стадионе, попутно высказав кое-какие соображения:
– Когда вы вспоминаете, Егор Егорыч, великую французскую революцию, то неизбежно перед вами навешивается улица, вас захватывают крики толпы: улица диктует свои условия, сама, непосредственно, всем бельэтажам и особнякам. Вдыхаете вы проклятья, запах пота толпы, бледные головы с вершин пик, аристократы кивают вам! А сегодня, во дни великой советской энциклопедии? Улица безмолвна. Улица, одетая в черное, молчалива, ломая храмы, переулки, тупики, проведет вас к заводам. Кубы клубов, клубясь знаниями, встретят вас. И все-таки…
– И все-таки, Матвей Иваныч?
Он потер живот, указывая пальцем в окно, на стадион:
– И все-таки, Егор Егорыч, мысли пятидесяти тысяч рабочих зрителей, собравшихся на стадионе, невидимыми нитями протягиваются к нам, в наш дом, наполняют трепетом и страхом сердца, предъявляют свои требования. При любой ограниченности, вы поймете, чего они хотят и что приказывают. Если вдуматься, то подобная форма немой диктатуры убирает с поля куда быстрее и лучше, чем вся пылкость старинных плакатов и гравюр. Пятьдесят тысяч на стадионе и этот гнилой домишко против него. О чем говорит стадион, еженощно и ежедневно думаем мы. Ясно он думает о нас. Но что он думает о нас, в чем нас подозревает? Мы нищи и убоги…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перед нами повесть, в которой таинственным образом сплетены судьбы статуи Будды, профессора Сафонова, гыгена Дава-Дорчжи, монголов-охранников.Главный герой повести – профессор Сафонов, специалист по буддизму, сталкивается с авантюристом, выдающим себя то за перевоплотившегося Будду, то за гыгена, основателя буддийского монастыря в Монголии.Куда везут статую и для какой надобности, известно только в самом начале повествования. Да и затем ли, зачем объясняет профессору Сафонову Дава-Дорчжи? Постепенно все забывается – только дорога и события, происходящие вокруг медной статуи, покрытой золотом, инкрустированной золотыми полосами, становятся важными.

Эта книга рассказывает о советских патриотах, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны против германского фашизма за линией фронта, в тылу врага. Читатели узнают о многих подвигах, совершенных в борьбе за честь, свободу и независимость своей Родины такими патриотами, ставшими Героями Советского Союза, как А. С. Азончик, С. П. Апивала, К. А. Арефьев, Г. С. Артозеев, Д. И. Бакрадзе, Г. В. Балицкий, И. Н. Банов, А. Д. Бондаренко, В. И. Бондаренко, Г. И. Бориса, П. Е. Брайко, A. П. Бринский, Т. П. Бумажков, Ф. И. Павловский, П. М. Буйко, Н. Г. Васильев, П. П.
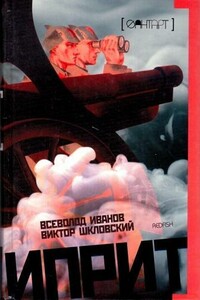
В двадцатые годы прошлого века Всеволод Иванов и Виктор Шкловский были молодыми, талантливыми и злыми. Новая эстетика, мораль и философия тогда тоже были молодыми и бескомпромиссными. Иванов и Шкловский верили: Кремль — источник алой артериальной крови, обновляющей землю, а лондонский Сити — средоточие венозной крови мира. Им это не нравилось, и по их воле мировая революция свершилась.Вы об этом не знали? Ничего удивительного — книга «Иприт», в которой об этом рассказывается, не издавалась с 1929 года.
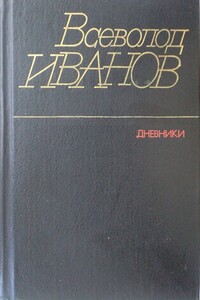
Один из первых советских классиков, автор знаменитого «Бронепоезда 14–69» Всеволод Иванов принадлежит к тому поколению писателей, которые в 20-е годы пережили небывалый взлет, а затем, в течение нескольких десятилетий, писали произведения «в стол», не надеясь когда-нибудь их опубликовать. О своей судьбе и писателях своего поколения размышляет Всеволод Иванов в своих дневниках, которые впервые печатаются полностью. Дневниковые записи Иванова периода 1924–1963 гг. включают в себя описание исторических событий того времени, портреты современников — политиков, писателей, художников, актеров и режиссеров (Б. Пастернака, М. Зощенко, И. Эренбурга, А. Фадеева, А. Мариенгофа, П. Кончаловского, С. Михоэлса и др.); воспоминания (о Петербурге 20-х годов, дружбе с «Серапионовыми братьями»), мысли о роли искусства в современном обществе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.