Тропинка на Невском - [2]
У всех еще были улыбки, забытые случайно на лице, у всех еще были лица для стола, для гостей — приветливые лица, а в окне уж© бесновались сполохи огня, прожекторы, трассирующие пули, снаряды — все светилось, все сверкало, и это сверкающее, горящее, воющее, гудящее надвигалось на нас. И грянула бомба — рядом, зашатался дом, полетели стекла, погас свет; еще и еще — и столб пламени, дыма, пыли ворвался в комнату.
Никто не крикнул в доме, все так же, когда утихла тревога, улыбался последний гость, повторил: «Вошел — и пробка в потолок», — но никто не смеялся вслух.
Сидели возле темного стола, и кто-то сказал: «Надо смастерить коптилку!» — и принялся мастерить.
Кто-то ушел на пост, кто-то ушел совсем — и поздно, поздно загорелась коптилка. Кто мог думать, что она не спрячется окончательно — сколько дней, сколько лет! — будет стоять тут на столе и освещать сначала этот стол под скатертью, потом голый стол, который на ночь превращался в кровать для кого-то, потом не станет и стола — коптилка переедет на окно, а стол сожгут? Кто думал, что коптилка переживет того гостя, еще нескольких гостей, переживет многое и многих и возвестит мне, что я — я! — останусь жить, и осветит мой дневник, в котором не хотелось писать про войну, блокаду, трупы, раненых, а хотелось писать про лето и дачу, купанье и ссоры с моей подругой…
Тропинка на Невском
Тропинка среди сугробов — на Невском, узкая тропинка между сугробами — протоптана одним человеком, от силы — двумя, так что трем не разойтись, — кто помнит эти тропинки, этот ход среди огромных сугробов, и всюду по сторонам — снег, горы снега! Маленькие горки, обледеневшие, — это тротуары, чуть побольше горки — троллейбусы, и огромные горы ледяных потоков, деревянных щитов и снега, снега — дома. Невский — весь из таких увалов, весь из пригорков, и внизу, как в ущелье, — тропинки, тропинки, а над этим снежным и ледяным белым нагорьем — белые провода, пушистые, воздушные и тяжелые в одно и то же время, и прозрачное прекрасное небо. Кто помнит это?
Мой Невский — стройный и строгий, лепной и ничем не украшенный, мой Невский, который я знала еще тогда, когда не могла выговорить слова «Невский», уже его любила, когда шли вдоль него к Екатерининскому садику — гулять, а потом пить чай с пирожными в «Норде» или «Квисисане», мой Невский, который я знала вдоль и поперек, который после, в ГДР, в Польше, ревниво сравнивала со всеми прекрасными городками — какой он, не померк? Мой Невский, Нева с тонкой акварельной линией домов и яркими, огненными стеклами на закате, мой Невский, моя Нева — все тогда было ледяной горой снега, все было однообразно, и даже нож Адмиралтейства не сверкал, а спрятался под чехлом и густым инеем и выглядел так, будто это была не та игла, которая всегда в конце улиц светилась как лучик, а теперь мерзла и коченела, вытягивалась вверх, как жерло пушки.
Тропинки на Невском — и скорбные тонкие усы троллейбусов…
Теперь, когда я сижу за машинкой, и парк влажно дышит в окна, и тишина, тепло, и ясная ночь течет за окнами — такая дивная, осязаемая, свежая, будто южная ночь! — мне хочется отвести это видение скорбного города, Невского, который был весь в сугробах.
Господи, какое нежнее, бережное ощущение красоты и строгости, особенной подтянутости случалось мне испытать, когда я ступала на край гранитного памятника Глинки, когда заглядывала в глубину его зеркальной поверхности и там видела себя, и театр, и консерваторию, видела прохожих и трамваи, видела небо, и яркие звездочки гранита сверкали мне так ясно и прелестно, что казалось, будто небо — здесь, в этом памятнике, будто он весь из звезд, из колючих иголочек инея и света! И этот памятник был олицетворением Петербурга, его красоты, хоть и не очень своеобразной, но тем не менее — привычной и прекрасной с детства, а раз с детства — то священной, своей красоты, которую предать — грех.
Когда теперь едешь по городу и ему конца нет — можешь ехать час или два, можешь ехать очень долго — на электричке, на метро, на трамваях — и все город н город, то странно подумать, что тогда, в блокаду, город весь сузился до размеров нескольких остановок, так что час или два ходили только пешком, и то в сторону Выборгской, иначе некуда было.
Ходили много — почему-то надо было куда-то, хоть и не хотелось совсем выходить из дому, не хотелось дышать морозом, видеть тоскливые лица, к которым, правда, привыкли, но все равно угнетали лица, фигуры людей, угнетало все, особенно то, как человек шел, садился в сугроб — и все знали, что из этого сугроба он не встанет больше. Чаще всего к нему подходили, поднимали, заставляли идти, но иногда никто не подходил, и человек сидел, смотрел на проходящих стеклянными глазами и постепенно засыпал, засыпал…
Вереница людей, проходивших по этим тропинкам, людей знакомых и не очень знакомых, потому что они часто стояли в очередях за хлебом, в одних и тех же очередях, или сидели в бомбоубежище вместе со мной, или просто жили по соседству, — вереница людей запомнилась мне, и если очень захотеть, то можно и теперь воскресить их облик в памяти, их облик и поступки, только их самих уже не воскресить…
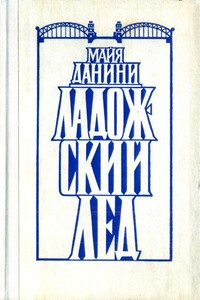
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.

Книга очерков о героизме и стойкости советских людей — участников легендарной битвы на Волге, явившейся поворотным этапом в истории Великой Отечественной войны.

Предлагаемый вниманию советского читателя сборник «Дружба, скрепленная кровью» преследует цель показать истоки братской дружбы советского и китайского народов. В сборник включены воспоминания китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР. Каждому, кто хочет глубже понять исторические корни подлинно братской дружбы, существующей между народами Советского Союза и Китайской Народной Республики, будет весьма полезно ознакомиться с тем, как она возникла.

Известный военный хирург Герой Социалистического Труда, заслуженный врач РСФСР М. Ф. Гулякин начал свой фронтовой путь в парашютно-десантном батальоне в боях под Москвой, а завершил в Германии. В трудных и опасных условиях он сделал, спасая раненых, около 14 тысяч операций. Обо всем этом и повествует М. Ф. Гулякин. В воспоминаниях А. И. Фомина рассказывается о действиях штурмовой инженерно-саперной бригады, о первых боевых делах «панцирной пехоты», об успехах и неудачах. Представляют интерес воспоминания об участии в разгроме Квантунской армии и послевоенной службе в Харбине. Для массового читателя.

Генерал Георгий Иванович Гончаренко, ветеран Первой мировой войны и активный участник Гражданской войны в 1917–1920 гг. на стороне Белого движения, более известен в русском зарубежье как писатель и поэт Юрий Галич. В данную книгу вошли его наиболее известная повесть «Красный хоровод», посвященная описанию жизни и службы автора под началом киевского гетмана Скоропадского, а также несколько рассказов. Не менее интересна и увлекательна повесть «Господа офицеры», написанная капитаном 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка Константином Сергеевичем Поповым, тоже участником Первой мировой и Гражданской войн, и рассказывающая о событиях тех страшных лет.

Книга повествует о жизни обычных людей в оккупированной румынскими и немецкими войсками Одессе и первых годах после освобождения города. Предельно правдиво рассказано о быте и способах выживания населения в то время. Произведение по форме художественное, представляет собой множество сюжетно связанных новелл, написанных очевидцем событий. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Одессой и историей Второй Мировой войны. Содержит нецензурную брань.

В августе 1942 года автор был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса. О боевых буднях штаба, о своих сослуживцах повествует он в книге. Значительное место занимает рассказ о службе в должности начальника штаба 10-й гвардейской стрелковой бригады и затем — 108-й гвардейской стрелковой дивизии, об участии в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Для массового читателя.