Три жениха. Провинциальные очерки - [20]
Случалось ли вам, — я спрашиваю это у моих читателей, а не читательниц: женская скромность помешает им отвечать откровенно, — случалось ли вам, во-первых, любить?.. Но поймите меня хорошенько: не так любить, как любят все, во второй, десятый, сотый раз, а так, как мы любим в первый раз в жизни, со всей непорочностью юной девственной души, когда честь и добродетель той, которую выбрало наше сердце, дороже нам самой жизни, когда мы не верим, а веруем и в дружбу и в любовь. Если вы испытали это чувство, если когда-нибудь, поздно вечером или в тихую весеннюю ночь, вы дожидались вашей любезной в тенистой роще, и дожидались для того только, чтоб в сотый раз повторить ей и, может быть, в первый услышать от нее: «Я люблю тебя!», то скажите мне, что происходило тогда в душе вашей? Не замирало ли сердце, не прерывалось ли ваше дыхание, когда, после многих и напрасных тревог, вы услышали наконец знакомый для вас шорох и вдали между деревьев замелькало белое платьице? Если вы не забыли еще, какое производили над вами действие эти мучительные и, в то же время, неизъяснимо приятные ощущения, то легко можете себе представить, что почувствовала Варенька, когда в недальнем от нее расстоянии раздался внятный шелест шагов. В конце аллеи, по которой она шла, две густые черемухи, сплетаясь ветвями, составляли небольшой свод, сквозь который виднелись, как в окно, светло голубые усеянные звездами небеса. Вдруг что-то темное заслонило этот отдаленный просвет.
— Это он! — шепнула Варенька, прислонясь к дереву, чтоб не упасть на землю.
Вот опять замелькали вдали звезды; опять что-то их зазастило. Этот темный предмет, бросая перед собой длинную тень, быстро подвигался вперед. Вдруг светлый луч месяца прорвался сквозь частые ветви лип и облил своим мирным и тихим светом закутанного в серую шинель высокого мужчину. Варенька хотела сделать шаг вперед, но ноги ее подогнулись, и она упала почти без чувств в объятия Тонского.
— Это вы!.. Это ты, мой друг!.. — вскричал с восторгом молодой человек. — О, я не смею верить моему счастью! Мне все кажется... Да, мой друг, да, я боюсь проснуться!
Варенька не говорила ни слова, но голова ее лежала на груди Тонского, и крупные слезы текли по ее пылающим щекам.
— Ах, если вы когда-нибудь перестанете любить меня! — прошептала она прерывающимся голосом.
— О, никогда, никогда!
— Меня некому было благословить, — продолжала Варенька, рыдая. — У меня нет ни отца, ни матери...
— Они видят мое сердце, — перервал Тонский, — и, верно, в эту минуту благословляют нас обоих. Но пойдем, мой друг! Твой крестный отец дожидается нас в церкви. О, поспеши, поспеши сказать, что ты навсегда будешь принадлежать мне!
Опираясь на руку Тонского, Варенька вышла из аллеи на обширный луг, который начинался от самого дома и оканчивался забором. Она невольно оглянулась назад, и ей показалось, что одно из окон спальни ее мачехи до половины было растворено. Между тем Тонский отпер калитку. Она опять захлопнулась, и коляска, запряженная четверкою лихих коней, помчалась, как из лука стрела. На минуту оживилась молчаливая улица: вдали раздался оклик полусонного будочника, еще далее залаяли встревоженные собаки... Стук от звонкой мостовой стал все тише и тише... Вот раздался еще один едва слышный оклик часового, — и вскоре все замолкло по-прежнему.
— Ну, слава Богу, уехали! — сказала Слукина, затворяя окно. — Ух! Как гора с плеч!
Она поправила свой ночник, легла на постель и, мечтая о двух тысячах душ, которые теперь на всю жизнь и нераздельно останутся в ее единственном владении, заснула самым сладким и спокойным сном.
V
— Девка, девка!.. Малашка!
Горничная девушка отворила потихоньку дверь в спальню Анны Степановны и остановилась на пороге.
— Который час?
— Семь часов, сударыня.
— Как я заспалась сегодня! Да что ты там стоишь? Войди!
Горничная вошла. За нею перевалилась за порог старуха Кондратьевна, нянюшка Анны Степановны; за Кондратьевной тащилась ключница Мавра; за Маврой две пожилые сенные девушки, из-за которых виднелись головы трех или четырех прачек, — они не смели войти в опочивальню их барыни и стояли в уборной. На всех лицах изображались страх, смущение и какое-то робкое любопытство.
— Что вы, что вы? — вскричала Слукина. — Зачем?
Нянюшка посмотрела на ключницу, ключница поглядела на сенных девушек, сенные девушки поглядели друг на друга; но никто не отвечал ни слова.
— Ну, что ж вы молчите? Зачем пришли? — повторила грозным голосом Слукина.
— Ах, матушка Анна Степановна! — прохрипела, наконец, Кондратьевна.
— Родная ты наша! — завопила ключница.
— Да что такое сделалось? — спросила Слукина, вставая с постели и накидывая на себя шлафрок.
— Беда, матушка! — завизжала одна из сенных девушек.— Такой грех, что и доложить не смеем.
— Да скажете ли вы мне, проклятые? — закричала Анна Степановна. — Говори хоть ты, Кондратьевна.
— Что, матушка! Несчастье, да и только. Варвара Николаевна без вести пропала.
— Как пропала?
— А так, кормилица, — сгинула да пропала. Вчера около полуночи она изволила пойти гулять в сад; Дуняшке приказала себя не дожидаться, а та сдуру-то прилегла соснуть, да и прохрапела до самого утра, окаянная. Как проснулась — глядь, барышни нет, постель не измята! Она в сад: и там никого. А калитка отперта! Вот как она увидела, что дело-то худо, — ко мне! Мы подняли всю дворню на ноги, обшарили все мышиные норочки: нет, как нет!
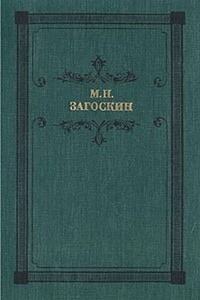
Исторический роман «Аскольдова могила» рассказывает о времени крещения Киевской Руси. Произведение интересно не только ярким сказочно-фантастическим колоритом, но и богатым фольклорным материалом, что роднит его с известными произведениями Н.В.Гоголя.Вступительная статья Ю.А.Беляева.

Действие романа происходит в XVII веке, в годы, которые вошли в историю России как одна из ярких страниц борьбы за ее независимость. Вымышленные происшествия романа «без насилия», по словам А.С.Пушкина, входят «в раму обширнейшую происшествия исторического». Заметное место в романе отведено таким событиям, как организация нижегородского ополчения по главе с Кузьмой Мининым и Д.М.Пожарским, освобождению Москвы от интервентов в 1612 году и другим.

Действие романа Михаила Николаевича Загоскина (1789-1852) «Рославлев» происходит во времена Отечественной войны 1812 г. В основе его лежит трагическая история отношений русского офицера Владимира Рославлева и его невесты Полины.
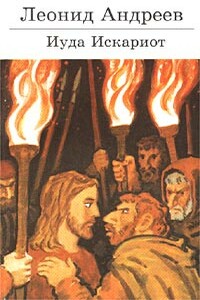
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

