Трагедия и комедия русских 'блатных' словарей - [4]
А вот на "подлинных письмах воров" придется заострить внимание. Все они - плод грубой, неумелой мистификации и никакого отношения ни к жаргону, ни тем более к воровским малявам и ксивам не имеют. Видимо, авторы накропали эти уродливые эпистолы, пользуясь диким воляпюком, лексику для которого они черпали в собственном "словаре":
"Здорово, дед!
Вот прошло больше пяти лысаков как от хозяина. Отросла лешога... Апирекция была всего два года... Как прицокался, балдел у корынки. Дергали в гадиловку, где петюкали алты как вшиварю или анохе... Особо фордыбачился фурсик из кадетов..."
Из всей этой галиматьи к уголовному жаргону имеют отношение слова "хозяин" (начальник тюрьмы или колонии), "гадиловка" (отделение милиции) и "дергать" в значении вызывать, приводить (типично арестантское словцо) да, пожалуй, "корынка" (хотя нынче обычно используется лишь "корынец" - отец). Остальное - плод больного воображения составителей. И главное: зачем вообще бывшему арестанту, находящемуся на свободе, писать "вольному" приятелю безобидное письмецо о своей жизни (живу у мамы, отросли волосы, перевоспитывают менты) - на арго? По-другому изъясняться не может? Полная ерунда. Так может рассуждать лишь профан, никогда не слышавший живой жаргонной речи.
То же дремучее невежество - и в "липовых" "воровских записках". Вот один из перлов - "Дубарь заначен в худуке" (труп спрятан в колодце). Просторечное "заначить" означает: припрятать на время, оставить "на потом", чтобы позже использовать. Так говорят о еде, куреве, наркотиках, деньгах... С какой целью неизвестные "воры" "заначили" труп - чтобы доесть или докурить? "Худук" же сроду не был словом жаргонным. Это - диалектная лексика (см. "Толковый словарь" Даля). Еще до революции малограмотные составители "воровских словарей" включили слово в состав жаргона, поскольку слышали его от арестантов из крестьянской среды и посчитали "уголовным"... Нынче ни один "сиделец" не скажет, что значит "худук" (сомневаюсь, чтобы это знали и современные сельские жители).
Авторы словаря даже не удосужились прочесть статью Д. С. Лихачева, которую сами же включили в свою книгу. Тогда бы они по крайней мере поняли, что жаргонная речь - это вовсе не перевод каждого обычного слова на язык "фени":
То, что воровская речь не может служить для тайных переговоров, должно быть ясно, поскольку насыщенность ее специфическими арготизмами не настолько велика, чтобы ее смысл нельзя было уловить слушающему. Воровская речь полна слов и выражений, которые только слегка видоизменяют обычное русское значение, о смысле которых легко догадаться и которые нельзя объяснить простым "засекречиванием"... Обычная речь вора так же естественна и не условна, как и речь представителя любой другой социальной группы. Законы развития всякого языка - ее законы... ("Черты первобытного примитивизма воровской речи")
Итог сказанному можно подвести словами того же Плуцера-Сарно, написавшего о творении Балдаева:
"Эта книга собрала в себе ошибки всех предыдущих словарей с добавлением нескольких тысяч новых ляпсусов и оплошностей. Между тем, словарь вышел суммарным тиражом 60 тысяч экземпляров и стал основным изданием в данной области, которым пользуются русисты всего мира. Хотя книгу никак нельзя использовать по прямому назначению в качестве словаря. Это какой-то буквенный ребус без отгадок. В России за последние сто лет выпущено около сотни воровских словарей и других работ, содержащих лексические материалы такого рода. Причем качество словарей, как это ни странно, ухудшалось с каждым годом, поскольку авторы не стеснялись заимствовать материалы из предшествующих словарей, никак их не редактируя и добавляя к чужим старым ляпсусам свои новые. Словарь Д. С. Балдаева знаменует собой окончательный тупик, в который зашла русская арготическая лексикография. Крайний непрофессионализм сочетается здесь с опасной уже устоявшейся традицией некритического заимствования материалов в ранее вышедших словарях".
Обезьяньи эксперименты
ДО СИХ ПОР МЫ НЕ КАСАЛИСЬ словарей, авторами которых являются люди с филологическим образованием, претендующие на профессионализм в подходе к непростой задаче составления лексиконов. Но это вовсе не потому, что подобные издания выгодно отличаются от перечисленных выше. Они не менее беспомощны, просто эта беспомощность - несколько иного рода. Наиболее характерны в этом отношении "Язык из мрака. Блатная музыка и феня" Михаила Грачева (Н. Новгород, 1992) и "Русская феня" Владимира Быкова (Смоленск, 1994).
Автор "Языка из мрака" выбрал беспроигрышный, на его взгляд, принцип составления словаря - на основе мемуарно-художественной литературы, отражающей реалии уголовной и лагерной жизни. Подход правильный, но только в том случае, когда его использует человек, хорошо знакомый с нравами, субкультурой, традициями и живым языком уголовно-арестантского мира. Сторонний же исследователь обречен вместо полноценного словаря собрать и систематизировать список отдельных слов с довольно убогими толкованиями. Что и случилось с Грачевым.
Некомпетентность автора видна уже в названии. Что такое "блатная музыка и феня"? Почему "и"? Ведь эти понятия абсолютно ничем не отличаются! Не говоря уже о том, что в современном преступном мире оба эти названия уголовного арго практически не используются, устарели. На вопрос "Ты по фене ботаешь?" чаще всего последует ответ - "А ты на хуй летаешь?". Выражения "ботать по фене", "ходить по музыке" выдают профана, "приблатненного" человека, далекого от уголовного мира, но пытающегося показаться "знатоком". Но не это главное. Похвально, что Грачев черпал знания из 74 источников. Однако он не слишком хорошо понимал, насколько эти источники достоверны, и уж совсем не обращал внимание на то, что имеет дело с изданиями, отражающими совершенно разные периоды развития уголовного арго, а также жаргон разных криминальных слоев, нередко ограниченный границами отдельных регионов (например, одесский). Соответственно, автор абсолютно не разделил в словаре активную лексику уголовно-арестантского мира и устаревшую, архаизмы. Надо же понимать, что "несчастные" С. Максимова в XIX веке говорили одним языком, беспризорники 20-х годов и персонажи каверинского "Конца хазы" - другим, лагерники Солженицына, Шаламова и Разгона - третьим, уголовники Марченко и Габышева - четвертым... Кстати, уже и арго времен Габышева здорово изменилось, а это - самый "свежий" источник Грачева, относящийся к 70-м годам. И, конечно, с особой осторожностью следовало бы относиться к цитированию произведений не автобиографических, а художественных. Потому что, например, детективщик Николай Леонов - мягко говоря, не лучший знаток жаргона.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
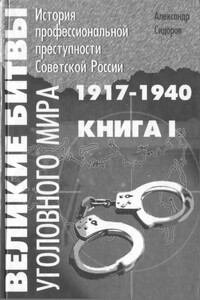
«История профессиональной преступности Советской России» — первое серьёзное и подробное исследование отечественной профессиональной преступности начиная с 1917 года. В книге проанализированы все этапы становления и развития профессионального уголовного мира СССР, его особенности, неформальные «законы» и традиции, критикуются неверные теории и ложные концепции целого ряда исследователей. Издание сопровождается богатым документальным и иллюстративным материалом.Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений по специальностям «История России», «История государства и права», «Психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», «Уголовно-исполнительное право», «Культурология», «Социолингвистика» и другим.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
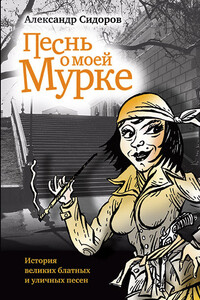
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.В издательстве «ПРОЗАиК» вышло первое и единственное в своем роде историко-филологическое исследование феномена воровской, арестантской и уличной песни.Книга появилась в продаже 29 сентября 2010 г.Много нового, любопытного, веселого, трагического, страшного, нелепого, героического о, казалось бы, давно знакомых и нехитрых по содержанию образчиках блатной лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
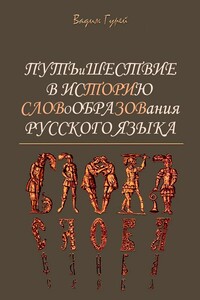
Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
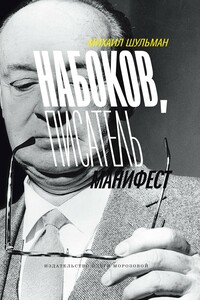
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.
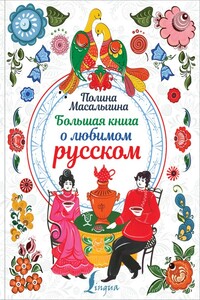
Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.
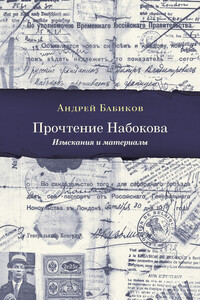
Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».
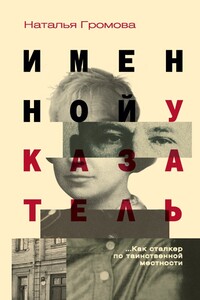
Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.