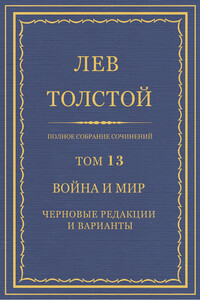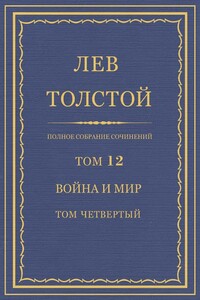Том 9. Освобождение Толстого. О Чехове. Статьи [заметки]
1
Даты везде по старому стилю. (Прим. И. А. Бунина).
2
Этим малым успехам много способствовала та светская жизнь, которую вел тогда юноша Толстой. Он поступил в университет сперва на факультет арабско-турецкой словесности, когда же, из-за своей светской праздности, не был переведен с 1-го курса на 2-ой, перешел на факультет юридический. Но и этот факультет не вызвал в нем охоты к университетскому образованию. Что вынесем мы с вами из университета? спрашивал он однажды одного своего товарища. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны? Смерть князя Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый на Анне Колтовской в 1572 году? А как пишется история? Грозный царь Иоанн вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему? Об этом и не спрашивается! Так уже и тогда стала обнаруживаться одна из самых главных черт его вызывающее презрение к общепринятому, тоже идущее из жажды освобождения, борьбы с подчинением. (Прим. И. А. Бунина).
3
Всюду, где это не оговорено, курсив мой. (Прим. И. А. Бунина).
4
Доктор Душан Маковицкий, домашний врач, друг и последователь. (Прим. И. А. Бунина).
5
О колониях толстовцев он всегда говорил неприязненно: Жить святым вместе нельзя. Они все помрут. Одним святым жить нельзя. (Прим. И. А. Бунина).
6
Умирающий кн. Андрей, Пьер в плену у французов, о. Сергий, сам Толстой… Наиболее заветной художественной идеей его было, думается, это: взять человека на его высшей мирской ступени (или возвести его на такую ступень) и, поставив его перед лицом смерти или какого-либо великого несчастия, показать ему ничтожество всего земного, разоблачить его собственную мнимую высоту, его гордыню, самоуверенность… Отсюда и постоянное стремление его видеть и развенчивать то, что таится в душе человека под всеми формами блестящей внешности. Почему так преклонялся он перед народом? Потому, что видел его простоту, смирение; потому что миллионы его, этого простого, вечно работающего народа, жили и живут смиренной, нерассуждающей верой в Хозяина, пославшего их в мир с целью, недоступной нашему пониманию. (Прим. И. А. Бунина).
7
«Чем больше он думал в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью…» (Прим. И. А. Бунина).
8
«Ну, хорошо, у тебя будет шесть тысяч десятин в Самарской губернии, триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что ж? Что потом?» («Исповедь»). (Прим. И. А. Бунина).
9
«Разве не тогда приобретал я все то, чем я живу теперь?» Приобретал и тогда, но сколь бесконечно мало в сравнении с тем, что приобретал на этом пути! (Прим. И. А. Бунина).
10
«Тогда не было ни смерти, ни бессмертия». Ригведа. (Прим. И. А. Бунина).
11
«Пусти, пусти меня!» Это и значит: «Вон из Цепи!» Но что там, за Цепью? «Пойди, посмотри, чем это кончится? Надо, надо думать!» (Прим. И. А. Бунина).
12
Гордость кн. Н. С. Волконского, деда Толстого по матери, тоже была достойна поговорки. (Прим. И. А. Бунина).
13
Одна из важных черт его характера: он был очень застенчив. (Прим. И. А. Бунина).
14
Однажды он едва не погиб на медвежьей охоте. Правила такой охоты требуют отоптать вокруг себя снег на том месте, где стоишь, чтобы дать свободу движениям. Он и тут пренебрегает обычным: «Вздор, в медведя надо стрелять, а не ратоборствовать с ним» — и становится по пояс в снегу. Из лесу на него выскакивает громадная медведица, он стреляет в нее и промахивается, стреляет еще, в упор, но пуля застревает у нее в зубах, и она наваливается на него, — глубокий снег не дал ему возможности отскочить в сторону, — начинает грызть ему лоб; спасло его только то, что подбежал другой охотник и застрелил ее. (Прим. И. А. Бунина).
15
На кумыс в Башкирию он ездил не только для поправления своих легких и отдыха от всяких своих работ, но и хотя бы временного освобождения от того мучительного бремени, которым всегда была для него городская жизнь: «от времени до времени он испытывал особенную тягу к природе и к первобытному существованию». И в Башкирии воскресал и душевно и телесно с необыкновенной быстротой. (Прим. И. А. Бунина).
16
Он сам виноват, между прочим, и в том совершенно нелепом мнении, которое утвердилось за ним как о художественном критике: «Ни в грош не ставил Шекспира и восхищался бездарным писателем из народа Семеновым!» Семенов стал знаменит в этом смысле. Но вот несколько строк из одних воспоминаний насчет этого Семенова: «Однажды Л. Н. неожиданно вошел в залу, где читали вслух рассказ Семенова. — Как фальшиво! Ах, как фальшиво! — сказал он, морщась. Но, дослушав до конца, где говорилось о развращающем влиянии города на чистую деревенскую душу, он вдруг с особым жаром стал расхваливать рассказ: заставил себя расхваливать». (Прим. И. А. Бунина).
17
пушечное мясо (франц.).
18
Вы законченное маленькое животное (франц.).
19
Какая прекрасная смерть (франц.).
20
Курсив Толстого. (Прим. И. А. Бунина).
21
Курсив Толстого. (Прим. И. А. Бунина).
22
вечно единственное (нем.).
23
Вечное молчание бесконечных пространств пугает меня (франц.).
24
Здесь и далее курсив И. А. Бунина.
25
Далее следуют выписки из рассказов «Дама с собачкой», «Ионыч», «Невеста».
26
В присутствии врача все полезно! (лат.)
27
Я не вижу, о чем писать (франц.)
28
Восстановление в первозданном виде (лат.)
29
Ничто человеческое не чуждо (лат.)
30
Не много слов, но много смысла (лат.)
31
Кто хочет понять поэта, тот должен отправиться в его страну (нем.)
32
Курсивы мои. (Прим. И. А. Бунина.)
33
Я думал найти дружбу, но нахожу только холодную и подчеркнутую вежливость и небескорыстное внимание (франц.)
34
Род Баратынских древний и ведет свое происхождение от древнего польского рода герба Корчек. В словаре Брокгауза и Эфрона говорится, что правильнее писать «Боратынский», а не «Баратынский». (Прим. И. А. Бунина.)
35
Курсивы мои. (Прим. И. А. Бунина.)
36
Курсив мой. (Прим. И. А. Бунина.)
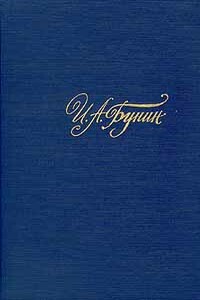
Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.
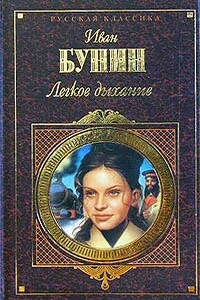
«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».
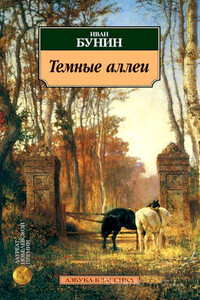
«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.
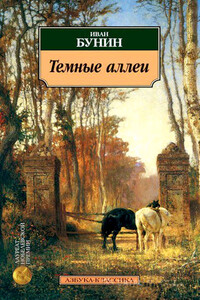
Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!
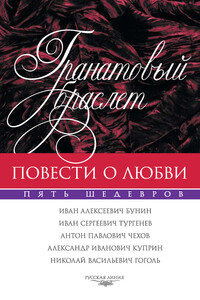
«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.
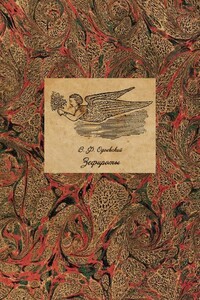
Книга впервые за долгие годы знакомит широкий круг читателей с изящной и нашумевшей в свое время научно-фантастической мистификацией В. Ф. Одоевского «Зефироты» (1861), а также дополнительными материалами. В сопроводительной статье прослеживается история и отголоски мистификации Одоевского, которая рассматривается в связи с литературным и событийным контекстом эпохи.
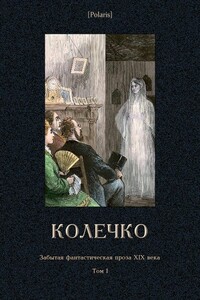
В сборник вошли впервые переиздающиеся произведения первой половины XIX века — фантастические повести Ф. Ф. Корфа (1801–1853) «Отрывок из жизнеописания Хомкина» и В. А. Ушакова (1789–1838) «Густав Гацфельд», а также рассказ безвестного «Петра Ф-ъ» «Колечко». Помимо идеи вмешательства потусторонних и инфернальных сил в жизнь человека, все они объединены темой карточной игры.
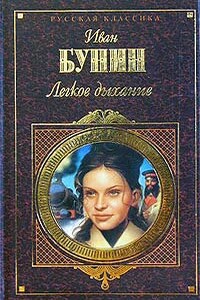
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.В третий том собрания входят повести и рассказы с 1909–1911 год: «Подторжье», «Деревья», «Суходол», «Крик», «Смерть пророка», «Снежный бык», «Древний человек», «Сила» и т д.А также рассказы 1907–1911 года: «Тень птицы», «Море богов», «Дельта», «Свет Зодиака», «Иудея», «Камень», «Шеол», «Пустыня дьявола» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.В седьмой том собрания входят: рассказы «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», «Степа», «Муза», «Поздний час», «Руся», «Красавица», «Дурочка», «Антигона» и др.А так же рассказы с 1931 по 1952 год: «История с чемоданом», «Остров Сирен», «Молодость и старость», «Возвращаясь в Рим» и еще более двадцати рассказов.http://ruslit.traumlibrary.net.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.Во второй том собрания входят рассказы: «Перевал», «Танька», «Кастрюк», «На хуторе», «Вести с родины», «На чужой стороне», «На край света», «Учитель», «В поле», «Святые Горы», «На даче», «Велга» и еще более двадцати рассказов.А также произведения, не включавшиеся И.А. Буниным в собрания сочинений: «Первая любовь», «Федосевна», «Мелкопоместные», «В деревне», «Кукушка», «Казацким ходом» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.В шестой том вошел роман «Жизнь Арсеньева».http://ruslit.traumlibrary.net.