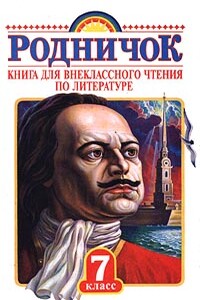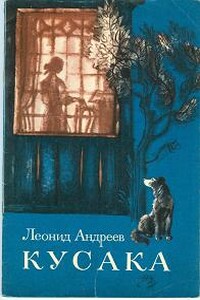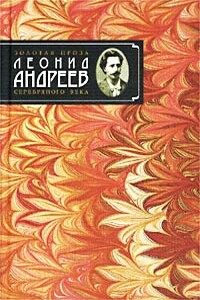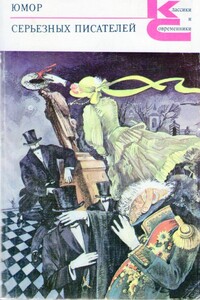Почему-то этот толстый турок мне кажется похож на меня, хотя я сам вовсе и не толстый; и как-то обидно, что он никого не трогал, а его самого все-таки тронули. Конечно, теперь он разъярится, как и все, турки народ свирепый, но ведь так и самую тихую собаку можно раздразнить до бешенства, станет бросаться и на хозяина. Но зачем было разъярять? Нет, что бы ни пела наша контора, а все больше мне не нравится, что война.
Сделал сегодня глупость и пробовал объяснить моей Лидочке, что такое война и что такое Турция, даже показал ей на карте. Конечно, она ровно ничего не поняла, и больше всего ее заинтересовало, что так много воды, а потом она и меня отвлекла от газеты, настойчиво требуя, чтобы посмотрел, как она прыгает. Прыгай себе, прыгай, Божье дитя, и радуйся, что ты не бельгийская или не польская девочка, погибающая в огне или от бомбы из облаков.
Стыдно подумать, что и детей так же убивают.
Октября 20 дня
В городе ходят ужасные слухи, что Варшава взята немцами. В конторе все приуныли, а на пана Зволянского прямо жалко смотреть.
Дома также большие неприятности. Во-первых, к нам совсем переехала на житье мамаша, Инна Ивановна: у Николая Евгеньевича вышел грандиозный скандал с женой и с адвокатом Киндяковым, и они разъехались; от Сашеньки знаю, что Николай стрелял из револьвера в Киндякова, но, слава Богу, не попал, и дело замяли. И еще счастье, что в тот вечер мамаша была у нас и почему-то осталась ночевать, так что всей истории не видала. Не могу понять, как в такое время можно заниматься ревностью и всякими любовными счетами; на душе и так уже не остается живого места, а тут еще один интеллигентный человек палит в другого… возмутительно! Позорно! Теперь Николай Евгеньевич уехал на Кавказ, а жена его треплется с Киндяковым, хочет в актрисы или что-то в этом роде.
А так как уже три недели нет известий от Павлуши, то можно представить, что за настроение в нашем доме. Сам по себе срок этот не велик (принимая в расчет медленность и неисправность военной почты), но Инна Ивановна ничего не хочет или не может соображать и производит ужасное впечатление своей подавленностью. Вдобавок она еще очень стесняется, не то даже боится меня, ей все чудится по ее старушечьему самолюбию, что она не имеет права жить у нас, и когда я от всего сердца начинаю успокаивать ее относительно Павлуши, указывать на неисправность почты и прочее, она поспешно соглашается и смотрит на меня так пугливо, словно я в замаскированной форме предлагаю ей выехать из нашего дома. Раз не выдержал и сказал ей:
— Да как же вам не стыдно, мамаша, так думать? И в какое положение вы ставите меня? Я вам единственно добра хочу, а вы смотрите на меня такими глазами, будто я германец из Берлина!
Испугалась еще больше… вот чепуха! И без меня, как рассказывают, она по целым часам плачет, а при мне даже улыбается и шутит, хотя по тому одному, как она путает слова и предметы, видно, что у нее на душе. Вот и сейчас: сама принесла мне и подала стакан кофе, а сахар забыла, и просто мучительно принимать услуги от такой древней старушки, которая и сама-то еле передвигается на своих исхоженных ногах.
Но самое мучительное, до глубины души волнующее меня, это моя добрейшая Сашенька, с которой просто не знаю, что и делать. Вот тема, о которой только и возможно говорить что в дневнике. Дело в лазарете, устроенном в нашем доме на средства квартирантов, в том числе и мои. Но горе не в деньгах, хотя их таки маловато, а в том, что с первой же прибывшей партии раненых Сашенька всем своим женским сердцем прилепилась к лазарету и ныне уже считается штатной сестрой милосердия или, вернее, сиделкой, так как никакого курса не проходила.
Казалось бы — что можно возразить против такой доброты и истинно христианского милосердия? И все знакомые хвалят Сашеньку, и солдаты ее любят, и сама она испытывает известное удовлетворение… и я молчу и соглашаюсь. Что же мне делать, как не молчать и соглашаться? Ибо, что я ни говори и как ни велика будь моя правда, мне не только не поверят, а еще осудят, оскорбят тяжкими подозрениями, немедленно возведут в чин эгоиста и самодура. Человек, который запрещает своей жене работать в лазарете! Да и как это докажешь. Раз людям выгодно, чтобы женщина не своей семьей занималась, а на них служила и штопала рвань, которую они изволят создавать.
А между тем, говоря по самой строгой моей совести, не могу не заявить, что Сашенькин подвиг в лазарете — есть чистая безнравственность, дурной и предосудительный поступок: нельзя целиком отдавать себя милосердию, оставляя близких своих в пренебрежении. Нельзя! И какое же это будет милосердие, если одних она жалеет, а других, не менее беспомощных и безвинных, она забывает.
Даже здесь как-то неловко говорить со всеми подробностями. У меня дурной желудок, и, чтобы оставаться для семьи настоящим работником, а не инвалидом, я нуждаюсь в нормальном питании, а наша Аксинья, предоставленная самой себе, кормит меня сплошь такою дрянью, что уже два раза у меня делалась холерина, колики и спазмы. Конечно, что такое желудок какого-то Ильи Петровича перед громами и ужасами войны, перед страданиями раненых, обездоленных и осиротевших… стыдно даже говорить! Теперь даже и доктора к таким болезням относятся пренебрежительно. Но если принять в расчет, что Илья Петрович такой же человек, как и те, и что всю свою жизнь он честно работал не только на себя, но и на других, и теперь продолжает содержать семью и маленьких детей, то и его желудок, смею это утверждать, заслуживает серьезного внимания и попечения.