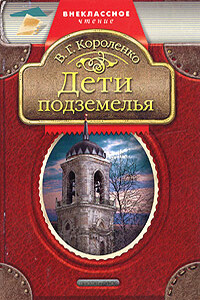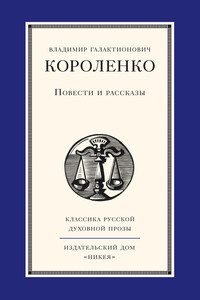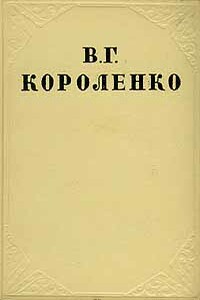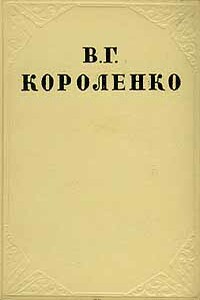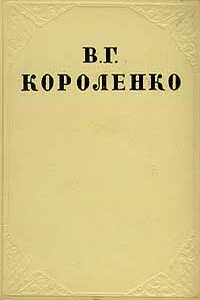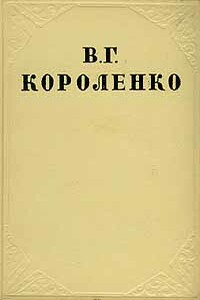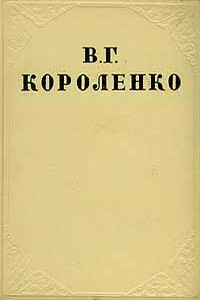Из нас троих только один старший брат избег этой участи, и случилось это до восхитительности просто. Его квартирная хозяйка заявила, что он ее жених и должен вскоре на ней жениться. «Ну что ж, так берите его себе».
И брат был отпущен.
Что касается нас двоих, то никакие обращения не помогали. Я уже сказал, что вскоре после нашего ареста был арестован Григорьев, две сестры Поповы, мой приятель, студент Горного института Мамикониан, и еще некоторые наши знакомые. Арестованы они были за знакомство с нами, и по отношению к Григорьеву так прямо и говорили. А когда один солидный человек (кажется, мой дядя, упоминавшийся выше Евграф Максимович Короленко) обратился с вопросом о нас в градоначальство, то там ему ответили просто:
— Помилуйте! Достаточно одних знакомств: все знакомые этой семьи сидят по тюрьмам!
Это был факт, опровергнуть который было, разумеется, невозможно.
Из квартиры старшего брата Глебов, разумеется, уже исчез. Зато был другой несчастливец, тоже бедствовавший, литератор Линовский, которому брат дал временный приют, кажется, впредь до получения паспорта. Работал он в то время в «благонамеренных изданиях» и даже в «Гражданине», где вел отчаянную полемику с либеральным фельетонистом Градовским (Гаммой). Но у него были два роковых качества: мрачная наружность и чрезвычайно неразборчивый почерк. При обыске была найдена его начатая рукопись, которую разбирать было трудно и некогда. И Линовский попал в Пудож, откуда вернулся далеким от сотрудничества в «Гражданине».
Особенно ярко вспоминается мне еще один арестованный — ученик консерватории. Он был тоже из стипендиатов, захваченных в квартире секретаря еврейского общества в день выдачи стипендий. Это был молодой человек с очень выразительной физиономией артиста. Сидя как-то в нашей камере и сверкая горевшими страстным огнем глазами, он говорил:
— Я не революционер, я артист… Я думаю, что всякое правительство естественным образом борется с революцией. Я был до сих пор на стороне правительства… Пусть установят самые строгие наказания, пусть ссылают на каторгу, пусть в крайнем случае казнят. Но пусть это будет по суду, со всеми законными гарантиями… А так… Нет! Теперь я первый радуюсь, когда в них стреляют, потому что они сами величайшие преступники против всего общества.
Я не помню его фамилии и не знаю, какова его дальнейшая карьера. Но до сих пор в моей памяти звучит его энергичный голос и вспоминаются горящие гневом глаза. Такое настроение разливалось тогда даже в равнодушных к политике кругах общества. А стрельба по воробьям из пушек все возрастала… И вот над головами правящих, над головой самого царя начинали все чаще кружиться зловещие птицы.
Мы сидели еще в Литовском замке, когда, 2 апреля, произошло покушение Соловьева. Впечатление, конечно, было сильное, но можно сказать, что цельно оно было разве только в народе. В обществе симпатии к прежнему «царю-освободителю» давно уже были подорваны его явным сочувствием изуверной реакции…
В тюремной среде, насколько мы могли это заметить, впечатление было равнодушное, и вдобавок оно окрасилось еще маленькой юмористической случайностью. Мы узнали о событии во время прогулки от уголовных арестантов. Во избежание «вредного влияния» мы гуляли обыкновенно в небольшом квадратном загончике, отгороженном от общего двора высокими палями. К этому частоколу часто подходили уголовные, наскоро делившиеся с нами выдающимися новостями дня. В этот день они как раз выходили из тюремной церкви, куда были собраны по случаю благодарственного молебна. При этом, по их рассказам, с тюремным священником произошло неприятное ораторское приключение. Выйдя на амвон, чтобы объяснить повод благодарственного молебна, и вперед настроившись на патетический лад, он начал громко и в приподнятом тоне:
— Дорогие братья! Вот и еще одно священное покушение на злодейскую особу его императорского величества!..
Внезапный припадок кашля со стороны кого-то из тюремной администрации прервал чувствительную речь, и оратору было трудно возобновить ее в том же тоне.
В ясный день начала мая в части двора, видной из нашего коридора, появились две кареты. Население политического отделения взволновалось: кого-то увезут?.. Через несколько минут вызвали нас с младшим братом. Наши сборы были недолги, но выезд оказался очень торжественным: в каждую карету с нами село по два жандарма, трое скакали по сторонам и сзади, шестой сидел на козлах. Это был целый отряд, наводивший панику на прохожих. Когда мы, свернув с Морской, выехали на широкую часть Невского, против Гостиного Двора, рабочие, чинившие мостовую, быстро вскакивали и, отбежав в сторону, снимали картузы и крестились.
Помню, это меня тронуло. Пришел на память Денисюк и его меланхолическое восклицание… Да, когда и как мы вернемся сюда?.. Мне казалось тогда, что этого ждать не так уж долго… И, конечно, вернемся мы при другой обстановке, в свободную столицу России!
На вокзале мне бросилась в глаза, во-первых, высокая фигура помощника градоначальника Фурсова. Он, очевидно, ждал нас, встретил и проводил каким-то странным и непонятно для меня враждебным взглядом. А дальше, на дебаркадере, стояла моя мать с заплаканными глазами и сестры. Нам позволили только обнять их и принять несколько денег, а затем — свистнул локомотив, и туманное пятно над Петербургом вскоре исчезло на горизонте…