Том 6. История моего современника. Книга 2 - [5]
— Сразу, значит, на проторенную дорожку? В чиновники? Нет? А куда же? В адвокаты?.. Гм… Это еще лучше… Куши, значит, хотите огребать?.. Правиль-но-с, молодой человек, очень правильно. Адвокаты действительно… народ благополучный…
Я попытался оправдаться. Ведь вот Спасович и другие… В нечаевском процессе… И защищали даром.
— А, вот что! Ну, простите, когда так. Если вас влечет эта сторона, дело десятое-с… Только все-таки лучше бросьте эту идею. Оратором вам не сделаться, потому что у вас отвратительный акцент. Не русский и не малорусский, а новороссийский, местечковый… С таким «прононсом» говорить речи и волновать сердца трудно-с…
— А вот опять-таки… Спасович, — защищался я робко.
— Ну, батюшка! То — Спасович. Не всем быть Спасовичами… А впрочем, что ж… давай вам бог…
Поезд летел, быстро пожирая пространство, и мне казалось, что так же быстро он пожирает время. Еще немного, и обаятельная сказка кончится… Мне придется навсегда расстаться с этим человеком, уже завоевавшим мое сердце…
Негри поднялся.
— Ну, юноша, мы еще поговорим с вами, — сказал он. — До Курска еще порядочно,
— Мне только до Ворожбы, — ответил я упавшим голосом.
— Это почему? — спросил он.
— В Сумах у меня дядя, к которому я должен заехать по дороге. В Ворожбе я найму лошадей.
В лице господина Негри мелькнуло оживление. Он опять сел на место, посмотрел на меня с некоторым раздумьем и сказал:
— Знаете… Ведь это счастливое совпадение. Мне ведь тоже нужно в Сумы… Я дам там концерт. Ваш дядя человек с положением? Давно живет в Сумах?
— Судебный следователь… Живет лет пять. Он опять подумал и сказал:
— Положительно нам по пути. Едем вместе. Кстати, вам и лошади обойдутся дешевле. Но позвольте. Вы мне сказали все о себе, а я вам еще не представился: Теодор Михайлович Негри. Артист-декламатор, прибавлю — довольно известный в провинции… Что? Вы разочарованы? Говорите правду. Думаете: скоморох, балаганщик, кривляющийся на подмостках для потехи публики.
Он ласково положил мягкую ладонь на мою руку и сказал тихо, задушевным голосом:
— Нет, гоноша. Вы ошибаетесь. Не скоморох, а артист — и человек идеи! Подмостки для меня — кафедра, декламация — проповедь. Я несу в невежественную массу Никитина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Петефи, Гюго. Я бужу в толпе чувства, которые без меня спали бы глубоким сном. И когда с высоты подмостков звуки моего голоса… как набатный колокол… кидают их в дрожь… как электрическая искра, зажигают эти нетронутые простые сердца…
Говорил он тихо, задушевно, только для меня, но все же сосед в рыжем пальто повернул к нам свое лицо с любопытными глазами. Негри сразу оборвал речь, помолчал и затем, протягивая мне руку, сказал:
— Итак, значит, едем?
Я ответил ему молчаливым взглядом, в котором, вероятно, он мог прочитать благодарное восхищение. Когда я теперь вспоминаю эту минуту, то мне кажется, что наш вагон несся по каким-то лучезарным полям, залитым ярким светом, а кругом меня стоял золотистый туман, и в нем плавал восхитительный образ Теодора Негри, артиста-декламатора… проповедника… «нового человека»…
— Станция Ворожба… Десять минут…
Я захватил свой чемоданчик. Негри попрощался с офицером. Пассажир в рыжем пальто с утиным носом хотел что-то сказать мне, но я, подхваченный вихрем восторга, не обратил на него внимания и выскочил из вагона. Негри в сопровождении носильщика вышел вслед за мною, кивнул носильщику на мой чемодан и, взяв меня под руку, повел в зал 1-го класса. Мне было неловко, но он усадил меня за стол так мягко и так властно, что я не посмел сопротивляться.
— Карту, — сказал он лакею.
Я почувствовал себя в затруднении, когда лакей во фраке и нитяных перчатках подал карту. Трата «на обед в первом классе» казалась мне непростительной роскошью. Впрочем, глаза мои уткнулись в «борщ — 30 копеек». Это было сносно. Негри велел себе подать рюмку водки, рюмку коньяку и третью рюмку пустую. Затем икры и осетрины… В пустой рюмке он смешал коньяк с водкой и аппетитно выпил.
Публика прошумела около буфета и схлынула. Поезд свистнул, громыхнул и умчался. Остался пустой зал с скромным буфетом, и мы двое. В открытую дверь виднелся немощеный дворик, скромные железнодорожные постройки и поля с новым заманчивым простором. Слышался звон бубенцов, и виднелись костистые лошади, запряженные по-русски.
Негри обтер усы салфеткой и поманил лакея. Боясь, чтобы он не заплатил и моих тридцати копеек, я торопливо схватился за кошелек. Негри, улыбаясь, посмотрел на меня и сказал:
— Вы хотите? Ну что ж, хорошо… В Сумах сочтемся. Лучше всего, когда в дороге ведет расход кто-нибудь один. Приучайтесь, юноша, приучайтесь… За меня рупь пятьдесят, ваших тридцать… Гривенник ему на чай. Позови, братец, ямщика.
Вошел ямщик в кафтане с очень короткой талией и в очень грязных сапогах и почтительно остановился.
Негри посмотрел на него смеющимися глазами и сказал:
— Здравствуй, друг Павло. Как поживаешь?
— Я Герасим, — ответил ямщик с удивлением.
— Да, да, Герасим… Я забыл. Павло другой.
— Вы меня знаете, ваше благородие? — спросил ямщик простодушно.
— Конечно, знаю. И знаю, у кого ты служишь.
И, повернувшись ко мне, он сказал, весело играя карими глазами:
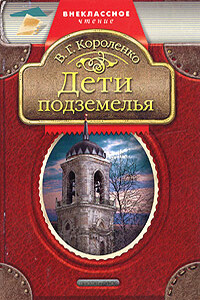
В своей повести «Дети подземелья» известный русский писатель В.Г.Короленко (1853-1921) затрагивает вечные темы дружбы, любви, добра, заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой жизни, полной лишений.Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
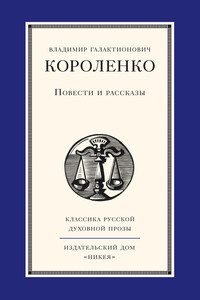
В. Г. Короленко – известный русский писатель, публицист и общественный деятель – в своих литературных произведениях глубоко исследовал человеческую душу. Понятие справедливости было главным для писателя, и его жизненная дорога стала путем правдоискателя и миротворца, который не закрывает глаза перед чужим горем. Все его герои – крестьяне или дворяне, паломники или бродяги, заключенные или их надзиратели – ищут справедливости, преодолевают себя, борются со слабостями, греховным унынием и эгоизмом («Слепой музыкант»), пытаются выжить в тяжелых условиях среди чужих им людей («Сон Макара»)

Рассказ написан в 1894–1895 годах, напечатан в первых четырех книгах журнала «Русское богатство» за 1895 год. Для первого отдельного издания, вышедшего в 1902 году, Короленко подверг рассказ значительной переработке: был дописан ряд эпизодов, введены новые персонажи, в том числе Нилов, осуществлена большая стилистическая правка; объем произведения увеличился почти вдвое. Материалом для рассказа послужили впечатления и наблюдения писателя, связанные с его поездкой летом 1893 года в Америку, на всемирную выставку в Чикаго.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
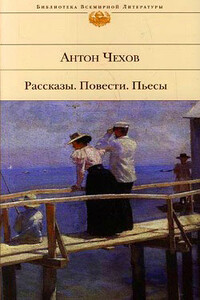
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Третий том собрания сочинений составляют рассказы и очерки: «За иконой», «На затмении», «Птицы небесные», «В пустынных местах», «Река играет», «В облачный день», «Художник Алымов», «Смиренные», «Не страшное», «Таланты», «Ушел!».http://ruslit.traumlibrary.net.
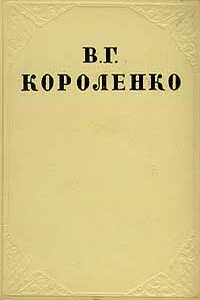
Второй том собрания сочинений составляют повести и рассказы: «В дурном обществе», «Лес шумит», «Слепой музыкант», «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды», «Ночью», «Судный день», «Тени», «Парадокс», «Необходимость», «Мгновение», «Братья Мендель».http://ruslit.traumlibrary.net.
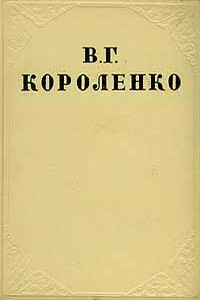
Пятый том составляет первая книга «Истории моего современника».«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.http://ruslit.traumlibrary.net.
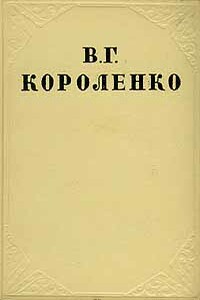
Первый том собрания сочинений составляют рассказы и очерки: «Чудная», «Яшка», «Убивец», «Сон Макара», «Соколинец», «Федор Бесприютный», «Черкес», «Искушение», «Ат-Даван», «Марусина заимка», «Огоньки», «Последний луч», «Мороз», «Государевы ямщики», «Феодалы», а также критико-биографический очерк «Владимир Галактионович Короленко» А. Котова.http://ruslit.traumlibrary.net.