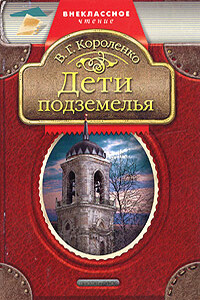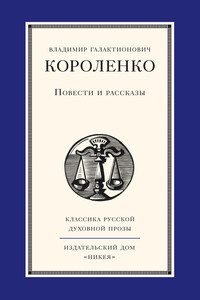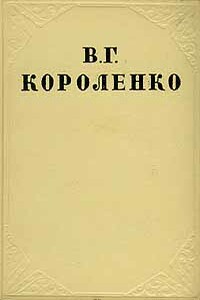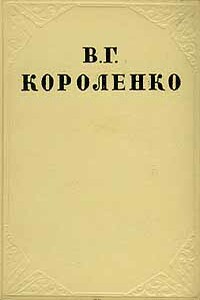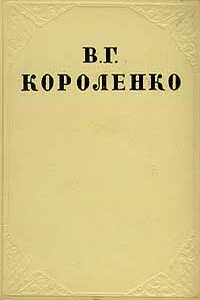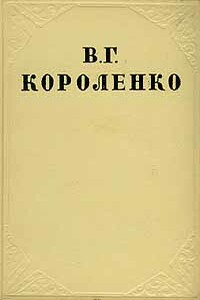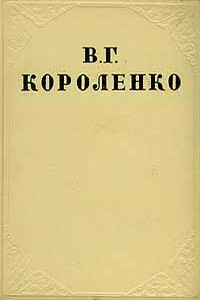Но мы были молоды, обладали железным здоровьем. Хотя все впечатления божьего мира мы воспринимали теперь точно сквозь какую-то тусклую дымку, но все же это не мешало порой прорываться вспышкам яркого оживления, которые потом сменялись реакцией и угнетением.
Вспоминаю один случай. Я вышел из Публичной библиотеки и направился домой. Мне предстояло пройти Садовую, Обуховский и Царскосельский проспекты. Обыкновенно этот конец я проходил незаметно, но на этот раз почувствовал приступ слабости. Я вспомнил, что с Гриневецким однажды случилось то же: он зашел далеко и ослабел. В кармане у него находилась случайно почтовая марка. Он беззаботно вошел в первую мелочную лавку и, смеясь, предложил купить у него марку. Лавочник оценил ее в пять копеек и отвесил на эту сумму белого хлеба. У меня в этот день оказалась тоже семикопеечная марка, и я решил поступить как Гриневецкий. Но у меня не было ни располагающей наружности Мирочки, ни его открытой веселой натуры. Поэтому когда я вошел в лавочку на Садовой и застенчиво предложил толстому купчине купить у меня марку, он сначала смерил меня с ног до головы презрительно-испытующим взглядом, а потом, помолчав еще несколько времени, сказал самым уничтожающим тоном:
— Не надо-с, не требуется, господин студент. Мы марочки покупаем в государственном почтамте-с, а отнюдь не у голодных студентов.
Из лавочки я уходил опутанный, точно сетями, взглядами приказчиков и публики, и в моей памяти всплыла прочитанная где-то пламенная, полная ненависти цитата из Фурье о хищном пауке-торгаше… Ненависть к этому «пауку» так воодушевила меня, что я и не заметил, как прошел длинный путь до нашей мансарды.
V. Павел Горицкий — нигилист
Я успел познакомиться с компанией Рогова. Это были всё Васькины земляки, костромские бурсаки, и все сплошь горькие пьяницы. Среди них мне бросились в глаза две оригинальные фигуры: Иван Колосов и Пашка Горицкий.
О Пашке много рассказывал мне Веселитский. Это была звезда костромской семинарии, и его прочили в академию. Но в последнем классе он написал какое-то сочинение, блестящее по изложению, но проникнутое таким «духом», что о посылке в академию на казенный счет нельзя было и думать. Однако Горицкий решил все-таки попасть в академию. По словам Веселитского, он пешком добрался до Киева, блестяще выдержал экзамен и был принят в академию. Тогда он еще не пил, был верующим и опять обратил на себя внимание как будущая звезда духовного просвещения. Но затем увлекся современными «светскими идеями», стал запоем читать журналы, изучил немецкий язык, чтобы читать в подлиннике немецких философов Штрауса, Шлейермахера и Гегеля. Еще немного, и он стал «нигилистом»… Кипучее вино отрицания легко и весело бродило в головах среди остановившейся на переломе русской интеллигенции, в том числе и духовной, а с тем вместе забурлило вино и в прямом смысле. В то время и в литературе, и в интеллигентных кругах было в ходу выражение: «Пили, как боги»…
— Понима-ашь, братец, — повествовал мне Веселитский, — отрешился наш Пашенька от всего: сжег все, чему поклонялся… Усумнился, понятно, и в бытии божием… На диспутах выступал, как некий демон отрицания: и се не бе, и се не бе… Ну, понима-ашь, духовные отцы живо выкурили. Им таких не надо.
После этого Горицкий попал сначала в московский, потом в петербургский университет. В это время он уже пил горькую.
В Москве он попал на урок к какому-то высокопоставленному лицу. Барин был либеральный генерал, жена «эсприфорка»[3] и сначала все шло хорошо. Оригинальный семинар-студент, с лицом Мефистофеля и дьявольским остроумием, нравился и доставлял развлечение. Но однажды, когда явился в генеральское общество сильно навеселе и направил свое ядовитое остроумие против всей высокопоставленной компании, которую созвали, чтобы показать интересного нигилиста, вышел скандал такой громкий, что Горицкому пришлось уехать из Москвы.
Колосов, его неразлучный спутник, был прямая противоположность Горицкому: добродушнейший великан, внушавший, однако, невольное почтение и страх одним своим видом и богатырским сложением, он был необыкновенно молчалив и, казалось, ставил задачей своей жизни оберегать приятеля Пашку от последствий его остроумия. Рассказывали, что однажды «для познания всякого рода вещей» приятели забрались в вертепы знаменитой тогда «Вяземской лавры», находившейся на углу Сенной площади и Обуховского проспекта. Горицкий вступил в беседу с какой-то воровской компанией. За беседой подвыпили, и скоро язвительные выходки Горицкого вызвали столкновение. Только громадная сила Колосова спасла Пашку от крупных неприятностей. Приятели едва убрались из «лавры» подобру-поздорову…
Как-то после одной «получки» по случаю именин Рогова наши соседи кутили всю ночь. В середине следующего дня в нашу комнату вошел Горицкий, которого я уже видел мельком несколько раз. Это был блондин небольшого роста, с бледным лицом, острыми чертами, горбатым носом и торчащей вперед рыжеватой бородкой. Я сидел за столом и с увлечением читал Шпильгагена. Он подошел ко мне, посмотрел заглавие и сказал:
— А, Шпильгаген!.. Читай, младой вьюнош, читай. Хар-р-о-шая книга. Возвышает душу… Есть еще писатель Авербах (он так и произнес: «Авербах» на чисто великорусский лад), так тот, братец, еще занятнее: у него все короли на высотах целуются.