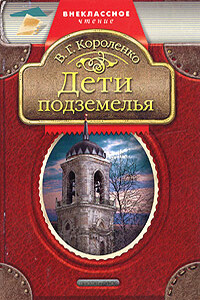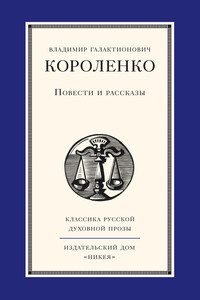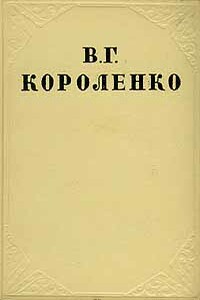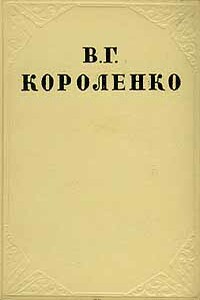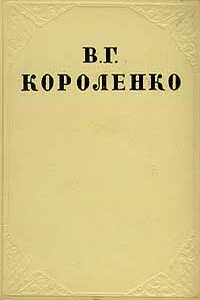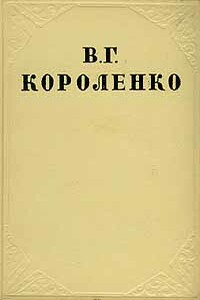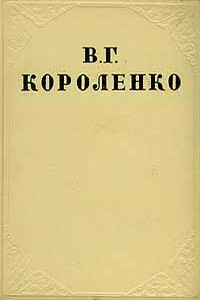— Васька!.. Да ведь он, братцы, ей-богу, дрыхнет… И папиросу не потушил… Васька, сгоришь, смотри!..
Веселитский поднял голову, посмотрел на него с видом презрительного спокойствия, а я решил, что Ардалион просто циник, не способный понять Веселитского…
И я немного гордился, что я-то его понимаю.
Петербургские сумерки… Мелкий дождик или туман с моря застилает куполы церквей, расползается по улицам, поглощая тусклые огоньки фонарей. Я быстро бегу из института или из Публичной библиотеки, куда устал усердно ходить с некоторых пор, совершенно забываясь под шипение газа и шелест переворачиваемых страниц… Когда закрывали библиотеку, я отправлялся домой, меряя быстрыми шагами Садовую, Обуховский и Царскосельский. Вагон конно-железной дороги или дребезжащая щапинская каретка были для нас недоступной роскошью. Шел я быстро и одним духом взлетал по грязной и вонючей лестнице… Дверь, обитая черной клеенкой. Тусклый фонарик освещает медную дощечку с надписью «Федор Максимович Цывенко». Я дома. В нашей комнате темно, Мирочки нет. Веселитский из экономии не зажигает огня. В темной комнате стоит тихий рокот гитары и светятся два кошачьих глаза. Кот Мавры Максимовны очень любит музыку. Веселитский наигрывает персидский марш, арию из «Травиаты», какую-нибудь заунывную волжскую песню. Из-за стены несется приглушенный говор и пьяное пение. В соседней квартире поселился недавно студент-костромич Ванька Рогов, товарищ Веселитского. Он интересен тем, что состоит корректором типографии «Русского мира», газеты Комарова и Черняева. Однажды, зайдя к нему, я увидел тайну изготовления книги: Ванька Рогов, рябой, в красной косоворотке и очках, над корректурным листом, казался мне чуть не Гутенбергом. Каждые две недели, в дни получения жалованья, у него происходили пирушки — шум, крики, пьяные песни. Однажды Веселитский вернулся оттуда несколько помятый. Заметив мой вопросительный и удивленный взгляд, он улыбнулся и сказал:
— Пропадают ребята… Обратился с словом убеждения. — Он опять улыбнулся и махнул рукой. — Куда тут!.. Чуть шею не накостыляли… Главное дело, Пашку мне жалко, Горицкого… Звезда нашей семинарии… Гениальная, брат, голова пропадает…
Он ложился рядом со мной на постели и начинал рассказывать о нравах духовной среды, о гибнущих силах… Я слушал с затаенным дыханием: все это для меня ново, и все из литературы — отголоски «Бурсы». Печаль Васьки о Пашке Горицком еще глубже привязывает меня к моему сожителю и другу.
III. Девица Настя. — Идеальный друг падает с пьедестала
На третий, кажется, месяц Василий Иванович разбогател. Ему прислали, во-первых, совершенно новую черную пару, сшитую костромским портным, и несколько пар белья, а через несколько дней толстый швейцар Технологического института с благосклонной улыбкой подал Гриневецкому повестку:
— Василию Ивановичу Веселитскому. Возьмете?
Лицо Мирочки просияло — повестка была на семьдесят пять рублей, целое богатство! Наша мансарда точно просветлела. В последнее время Мавра Максимовна часто плакала. Мы задолжали за квартиру, и между супругами происходила драма: Цывенко опять настаивал на строгих мерах, а доброй женщине было жалко прогонять нашу бедствующую компанию. Теперь Василий Иванович стал сразу героем дня. Узнав об этом, Ардалион фыркнул по-своему и сказал:
— Ну, братцы, теперь смотрите… Идите кто-нибудь с ним в почтамт… А то стреканет к приятелю на Бронницкую — только его и видели. Я его знаю…
Веселитский ответил молчаливо-презрительным взглядом, а во мне закипело прямо негодование. На следующее утро, когда Гриневецкий заговорил об этом предостережении Никулина, я восстал против недоверия к товарищу с таким негодованием, что Мирочка, хотя и с колебанием, уступил. Василий Иванович, торжественно облачившись в новую черную пару, отправился в почтамт один, унося с собой наше доверие и наши надежды. Мирочка ушел в институт, а я на этот раз остался дома за чтением Флеровского, принесенного мне Зубаревским.
Я просидел, таким образом, часа полтора, когда раздался звонок. Но вместо Василия Ивановича Мавра Максимовна впустила в комнату незнакомую мне особу женского пола. Это была девушка лет около тридцати, с очень живыми черными глазами и заметными усиками. Одета она была с некоторым щегольством профессиональной модистки, и манеры у нее были очень бойкие. Оглядев комнату, она сказала:
— Что? Еще не пришел?
— Кого вам угодно? — спросил я, сразу сконфузившись.
Она сняла шляпу, положила ее на стол, заперла нашу дверь перед самым носом заинтересованной Мавры Максимовны и уселась бесцеремонно на стул.
— Мне Василия Ивановича… Я подожду…
В нашей комнате наступило молчание. Я старался читать, но это удавалось мне плохо. Все время я чувствовал на себе взгляд черных бойких глаз незнакомки. Самая тишина комнаты меня томила. Тикали часы, из кухни несся стук горшков и возня хозяйки.
— Ах ты господи, тоска какая, — сказала вдруг незнакомка. Я густо покраснел. Я почувствовал в этом восклицании упрек: если бы я был «настоящим студентом», а не мальчиком, то сумел бы занять гостью, и нам обоим было бы интересно… Но я не знал, что сказать, и краска заливала мое лицо.