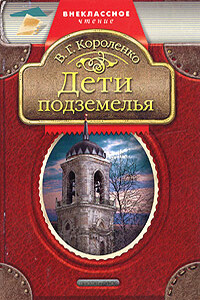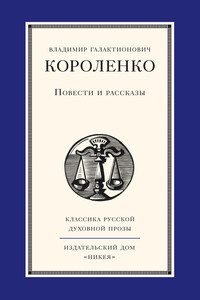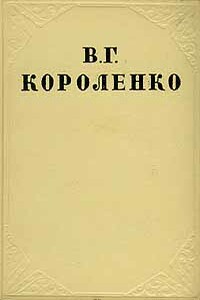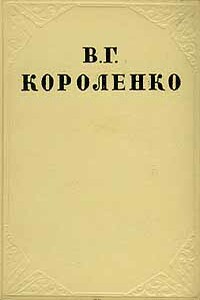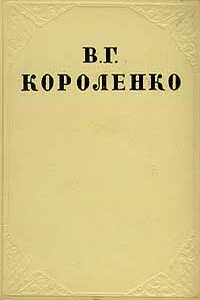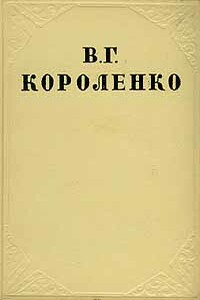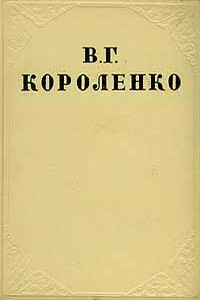В темном подвале, охраняемом злющим цербером, находят груду человеческих костей… Ужасаются, мотают головами… пишут в газетах. Сестра, мать, Теодор Негри читают. Сначала пугаются, потом, конечно, — радость… Все хорошо. Мне наперебой предлагают работу. Три часа в день. Сорок пять рублей в месяц. Я богат, могу еще посылать матери. Перехожу с курса на курс… В Технологическом… в университете… еще где-то. Вообще — все отлично…
Все так отлично, что я сладко сплю, несмотря на клопов и на деревянную ножку под боком, одетый, в разбойничьем вертепе…
Когда я проснулся, точно от внезапного толчка, первой моей мыслью было: жив ли я.
Я был жив, ночь уже прошла. В комнате было светло. Луч солнца, перебравшись через крыши, заиграл вверху по стене, и желтоватые рассеянные лучи попали на дно двора-колодца. У стола стоял чернобородый, позванивая убираемой посудой.
— Так и спали ночь, не раздемши, — сказал он печально и прибавил, потупясь — Побеспокоили вас вчерась… Извините…
— Кто это был, пьяный? — спросил я, резво подымаясь на ноги с ощущением необыкновенного благополучия…
Чернобородый глубоко вздохнул.
— Грехи! И сказать стыдно. Сам это, хозяин здешний. Закрутил, что станешь делать. Запираем, да нешто углядишь. Вчерась вот вышел я. Хозяйку вы за булкой послали. Думали, спит он. Сама в ворота, а он тихонечко за нею… Собака взлаяла. Оглянулась она, а он — что ты думаешь: дерет по улице, не догонишь… И опять пьяной… Господи, помилуй нас грешных. И откуль денег добыл, удивительное дело.
Я вспомнил свой двугривенный и покраснел. Чернобородый уставил посуду на подносе и опять обратил ко мне унылое лицо.
— А я вот купеческий брат считаюсь. Хозяин, значит, брат мне приходится. Ну, теперича хожу у них за номерного. Что станешь делать. Кабы достатки. А то сами, чай, видите: нешто это номера! Ведешь хорошего господина с вокзалу — самому совестно в глаза поглядеть.
Он скорбно помотал головой и прибавил:
— А ведь жили-то как в своем месте! Купцы были настоящие. Сама-то Агафья Парфеновна пойдет, бывало, в бархатном салопе в церковь — прямо графиня! Теперь слезой вся изошла. И я с нею. Чего ни делали: свечи угодникам ставили, молебствовали… А что? — спросил он вдруг, меняя тон, — вам самоварчик-то нужно?
— Пожалуйста.
— А то, извините, может, с нами бы попили. Дешевле, а самовар горячий. Сама пьет.
Мне было так совестно перед этими добрыми людьми, что я охотно согласился. Хозяйка сидела за самоваром в маленькой, тесно заставленной спаленке. У киота печально теплилась лампадка, из-за полога слышался храп и кошмарное бормотание запойного хозяина. Глаза у женщины были красны, но лицо ее сегодня показалось мне совсем другим. Оно еще носило следы былой красоты, и держалась она с таким достоинством, что, когда подавала мне налитый стакан, я чувствовал потребность привстать и конфузливо раскланивался.
Чернобородый пил чай отдельно в кухонке, но это было так близко, что разговор у нас шел общий. И когда они опять рассказали мне историю хозяйского запоя и разорения, мне стало так жаль их обоих, что я принялся утешать их и наговорил много глупостей. Конечно, ни иконы, ни знахари из Замоскворечья тут не помогут. Поможет только наука. Я читал где-то, что теперь есть лечебницы для алкоголиков… Я еду в Петербург, узнаю все это обстоятельно и непременно им напишу… Наука, о, наука одна теперь делает чудеса…
— Ну, дай тебе, господи, за доброту за твою, — сказала бедная женщина, прощаясь со мной. Не знаю, поверила ли она в спасительную силу науки, но мне так хотелось оказать им эту маленькую услугу, что говорил я с искренним увлечением и верой.
Чернобородому нужно было опять идти к поезду, и он взялся указать мне дорогу к институту. Был праздник. Гудели колокола — протяжно, низко, печально… И мне казалось, что вся Москва похожа на заплаканную разорившуюся хозяйку моих номеров и что она этими колоколами вопит, разливаясь слезами о каких-то лучших днях, когда она ходила в бархатных салопах…
Короткое свидание с сестрой не рассеяло этого впечатления.
Мы сидели в огромном зале с колоннами. Я чувствовал, как что-то рвется навстречу этой родной маленькой фигурке в институтском платье и что-то другое сдерживает и холодит эти порывы… Сестру скоро позвали, а когда я вышел из института, то к печально перекликающемуся хору колоколов присоединился еще Иван Великий… Он бухал с размеренно-важною скорбью, и казалось, какая-то неизбывная печаль кружит и плавает над Москвой…
От всего этого веяло такой тоской, что я остановился на Самотеке, совершенно не зная, что мне с собой делать. К счастью, мне вспомнились мои спутники — Зубаревский с товарищем. Времени до поезда оставалось еще довольно. Я пошел по улицам, расспрашивая дорогу, и вскоре был у Кокоревского подворья.
Оба студента были в номере, где-то очень высоко, чуть не на чердаке. Когда я вошел, они немного смешались; они были заняты упаковкой в чемодан каких-то книг. Увидев меня, Зубаревский радушно протянул Руку.
— Отлично, что зашли. Хотите чаю? Вот самовар на столе, наливайте сами… Мы тут, как видите, разбираемся с кое-какой литературой. С этим вот вы незнакомы?