Том 5. Рудин. Повести и рассказы 1853-1857 - [11]
Вы боитесь — будемте говорить без обиняков — вы боитесь остаться старой девушкой. Вам, я знаю, уж двадцать шесть лет. Действительно, положение старых девушек незавидно: все так охотно смеются над ними; все с такой невеликодушной радостью подмечают их странности и слабости; но если поглядеть попристальнее на любого уж стареющего холостяка — и на него стоит уставиться пальцем: найдется и в нем над чем нахохотаться вдоволь. Что делать? С бою счастья не возьмешь. Но не должно забывать, что не счастье, а достоинство человеческое — главная цель в жизни.
Вы описываете ваше положение с большим юмором. Я хорошо понимаю всю горечь его; ваше положение можно, пожалуй, назвать трагическим. Но знайте, не вы одни в нем находитесь: почти нет современного человека, который бы не находился в нем. Вы скажете, что от этого вам не легче; а я так думаю, что страдать вместе с тысячами совсем другое дело, чем страдать одному. Тут не в эгоизме дело, а в чувстве общей необходимости.
Всё это прекрасно, положим, скажете вы… но в действительности неприменимо. Почему же неприменимо? Я до сих пор думаю и, надеюсь, никогда не перестану думать, что в божьем мире всё честное, доброе, истинное применимо и рано или поздно исполнится, и не только исполнится, но уж теперь исполняется; держись только каждый крепко на своем месте, не теряй терпения, не желай невозможного, но делай, насколько хватает сил. Впрочем, я, кажется, уж слишком вдался в отвлеченности. Отложу продолжение моих рассуждений до другого письма; но не хочу положить пера, не пожав вам крепко, крепко руки и не пожелав вам от души всего хорошего на земле.
Ваш А. С.
P. S. Кстати! вы говорите, что вам нечего ждать, не на что надеяться; почему вы это знаете, позвольте спросить?
Село …но, 30 июня 1840 года.
Как я благодарна вам за ваше письмо, Алексей Петрович! Как много пользы оно принесло мне! Я вижу, вы точно добрый и надежный человек, и потому не буду скрытничать перед вами. Я вам верю. Я знаю, вы не употребите во зло моей откровенности и подадите мне дружеский совет. Вот в чем дело.
Вы заметили в конце моего письма фразу, которая вам не совсем понравилась. Вот к чему она относилась. Здесь есть сосед… при вас он тут не был, и вы его не видали. Он… Я бы могла выйти за него замуж, если б захотела; он человек еще молодой, образованный, с состоянием. Препятствий со стороны моих родных нет; напротив, они — я это наверное знаю — желают этого брака; он человек хороший и, кажется, меня любит… Но он так вял и мелок, все желания его так ограниченны, что я не могу не сознавать моего превосходства над ним; он это чувствует и как будто радуется этому, а именно это-то и отталкивает меня от него; я его уважать не могу, хотя и сердце у него прекрасное. Что мне делать, скажите? Подумайте за меня и напишите мне искренно ваше мнение.
Но как я вам благодарна за ваше письмо!.. Знаете ли, меня иногда посещали такие горькие мысли… Знаете ли, я доходила до того, что почти стыдилась всякого — не скажу уж восторженного, — всякого доверчивого чувства, с досадой закрывала книгу, когда в ней говорилось о надежде и счастии, отворачивалась от безоблачного неба, от свежей зелени деревьев, от всего, что улыбалось и радовалось. Какое это было тяжелое состояние! Я говорю: было… как будто оно прошло!
Не знаю, прошло ли оно: знаю, что если оно не возвратится, я вам этим буду обязана. Видите ли, Алексей Петрович, как много вы наделали добра, может быть, сами того не подозревая! Кстати, знаете ли, что мне очень вас жаль? Теперь самый разгар лета, дни стоят чудные, небо синее, яркое… в Италии оно не может быть прекрасней, а вы сидите в душном и пыльном городе, ходите по жгучей мостовой. Что вам за охота? Хотя бы на дачу вы куда-нибудь переселились. Говорят, за Петергофом, на берегу моря, есть прелестные места.
Хотела бы еще писать к вам, но невозможно: из сада повеяло таким сладким запахом, что нельзя оставаться в комнате. Надеваю шляпу и иду гулять… До другого раза, добрый Алексей Петрович.
Преданная вам М. Б.
P. S. Я забыла вам сказать… Вообразите вы себе, тот остряк, о котором я вам писала на днях, — представьте, объяснялся мне в любви, и в самых пламенных выражениях. Я сперва думала, что он смеется надо мной, но он кончил формальным предложением — каков после всех его клевет? Но он решительно слишком стар. Вчера ночью я, ему в пику, села за фортепьяно перед раскрытым окном при свете луны и играла Бетховена. Мне было так весело чувствовать ее холодный свет на моем лице, так отрадно оглашать душистый ночной воздух благородными звуками музыки, сквозь которые по временам слышалось пение соловья! Я давно не была так счастлива. А вы, однако, напишите мне о чем я вас просила в начале письма: это очень важно.
Санкт-Петербург, 8-го июля 1840 года.
Милая Марья Александровна, вот мое мнение в двух словах: и старого холостяка и молодого вздыхателя — обоих за борт! Об этом и рассуждать нечего. Ни тот, ни другой вас не стоят — это ясно, как дважды два — четыре. Молодой сосед, может быть, и добрый человек, да бог с ним! Я уверен, что между ним и вами нет ничего общего, и можете себе вы представить, как вам весело будет жить вдвоем! Да и к чему спешить? Сбыточное ли дело, чтоб женщина, подобная вам, — я не хочу говорить комплиментов и потому не распространяюсь более, — чтоб такая женщина не встретила никого, кто сумел бы оценить ее? Нет, Марья Александровна, послушайтесь меня, коли вы точно думаете, что я ваш друг и мои советы полезны. А сознайтесь, приятно вам было увидеть у ног своих старого клеветника?.. Я, на вашем месте, заставил бы его целую ночь напролет петь «Аделаиду» Бетховена

И.С.Тургенев – имя уникальное даже в золотой плеяде классиков русской прозы XIX века. Это писатель, чье безупречное литературное мастерство соотносится со столь же безупречным знанием человеческой души. Тургенев обогатил русскую литературу самыми пленительными женскими образами и восхитительными, поэтичными картинами природы. Произведения Тургенева, облекающие высокую суть в изящно-простую сюжетную форму, по-прежнему не подвластны законам времени – и по-прежнему читаются так, словно написаны вчера…В романе «Отцы и дети» отразилась идеологическая борьба двух поколений, являвшаяся одной из главных особенностей общественной жизни 60-х годов XIX века.

Впервые повесть опубликована в журнале «Современник» за 1854 год, № 3.Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в двенадцати томах. Издательство «Наука». Москва. 1980. Издание второе, исправленное и дополненное.

«Стихотворения в прозе» – это философские раздумья над основными вопросами бытия: жизнью и смертью, дружбой и любовью, правдой и ложью.Для старшего школьного возраста.
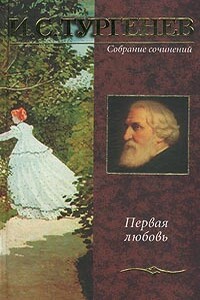
И.С.Тургенев – имя уникальное даже в золотой плеяде классиков русской прозы XIX века. Это писатель, чье безупречное литературное мастерство соотносится со столь же безупречным знанием человеческой души. Тургенев обогатил русскую литературу самыми пленительными женскими образами и восхитительными, поэтичными картинами природы. Произведения Тургенева; облекающие высокую суть в изящно-простую сюжетную форму, по-прежнему не подвластны законам времени – и по-прежнему читаются так, словно написаны вчера…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Редко соединялись в такой степени, в таком полном равновесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к человечеству и артистическое чувство», — восхищался «Записками охотника» Ф.И. Тютчев. Цикл очерков «Записки охотника» в основном сложился за пять лет (1847—1852), но Тургенев продолжал работать над книгой. К двадцати двум ранним очеркам Тургенев в начале 1870-х годов добавил еще три. Еще около двух десятков сюжетов осталось в набросках, планах и свидетельствах современников.Натуралистические описания жизни дореформенной России в «Записках охотника» перерастают в размышления о загадках русской души.

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
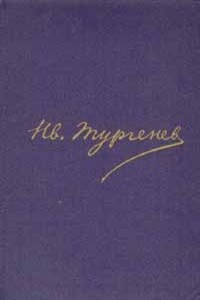
Во второй том вошли сцены и комедии И.С. Тургенева: «Неосторожность», «Безденежье», «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», «Завтрак у предводителя», «Месяц в деревне», «Провинциалка», «Разговор на большой дороге», «Вечер в Сорренте» созданные писателем в 1843–1852 гг, а также неоконченные произведения, планы, наброски.
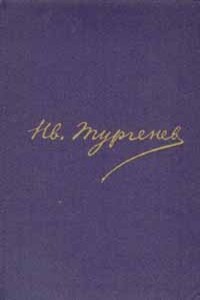
Десятый том включает художественные произведения, созданные писателем в последние годы его жизни, а также переводы из Г. Флобера, критику и публицистику конца 1850-х — 1880-х годов.http://ruslit.traumlibrary.net.
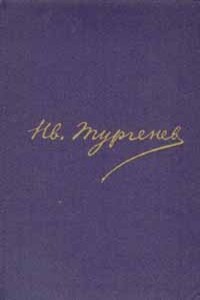
В первый том вошли стихотворения, поэмы, статьи и рецензии, прозаические наброски написанные И.С. Тургеневым в 1834–1849 гг.
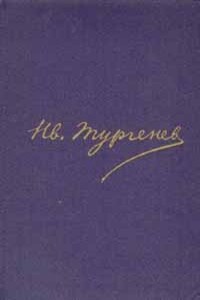
Настоящий том объединяет произведения, написанные в 1860–1867 годах: роман «Отцы и дети» (1860–1862), рассказы «Призраки» (1863–1864), «Довольно» (1862–1865), «Собака» (1864–1866), роман «Дым» (1865–1867).