Том 5. Рассказы, 1917-1930 - [2]
Лаврентий. Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревням сидят, грабежу ждут.
Сухоногий. Сидят! Конечно, сидят! Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде каждый должон был в назначенный срок явиться, а не явился — умей выправиться, рапорт подай! Теперь все равно все прахом пойдет, все придется сначала начинать, по камушку строить!
Лаврентий. Ах, боже милосливый! А строить-то кто будет?
Сухоногий. Кто ж по-твоему? Ты? Ан брешешь! Господь, а не ты! Господь!
Лаврентий. Тебе такому-то господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай, ты все равно его лопухами заростишь. Тебе бы только на жалейках играть да дельного человека злословить. Ну, я крот скребучий, а ты кто? Вашего брата хорошие угодники божии за вашу беспечность за вшивые вихры драли.
Сухоногий. Не все драли, брешешь! Угодники разные есть! Они сами богатства гнушались!
Лаврентий. Они для себя гнушались, а нам велели свое потомство кормить. Державу питать.
Сухоногий. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду!
Лаврентий. Я не Ванька, я хозяин.
Сухоногий. Ну, и лопни твое чрево с твоим хозяйством!
Лето 1917 г.
Исход
I
Князь умер перед вечером двадцать девятого августа. Умер, как жил, — молчаливый, ото всех отчужденный.
Солнце, золотясь перед закатом, не раз заходило в легкие смуглые тучки, островами раскинутые над дальними полями на западе. Вечер был простой, спокойный. На широком дворе усадьбы было пусто, в доме, как будто еще более обветшавшем за лето, очень тихо.
Нищие, бродившие по деревне, раньше всех узнали о смерти князя. Они появились возле разрушенных каменных столбов при въезде в усадьбу и нестройно, разными голосами, запели древний духовный стих «на исход души из тела».
Их было трое: рябой парень в лазоревой рубахе с укороченными рукавами, старик, очень прямой и высокий, и загорелая девочка, лет пятнадцати, но уже мать. Она стояла с сонным ребенком на руках, державшим во рту сосок ее маленькой груди, и пела звонко и бесстрастно. Мужики были оба слепы, с бельмами; у нее глаза были чистые, темные.
В доме хлопали двери. Наташа выскочила на парадное крыльцо и вихрем понеслась через двор к людской; из растворенного дома слышно было, как стенные часы медлительно пробили шесть. А через минуту по двору уже бежал и на ходу попадал в рукав армяка работник — седлать лошадь, скакать на деревню за старухами. Гостившая в усадьбе странница Анюта, похожая своей стриженой головой на мальчика, высунулась в окошечко людской и, захлопав в ладоши, что-то закричала ему вслед — тупо, косноязычно и восторженно.
Когда молодой Бестужев вошел к умершему, тот лежал навзничь на старинной кровати орехового дерева, под старым одеялом из красного атласа, с расстегнутым воротом ночной рубашки, полузакрыв неподвижные, как бы хмельные глаза и откинув темное, побледневшее, давно не бритое лицо с большими седеющими усами. Ставни в этой комнате были по его желанию закрыты все лето, — теперь их открывали. На комоде возле кровати желто горела свеча. Склонив к плечу голову, с бьющимся сердцем, Бестужев жадно всматривался в то странное, уже холодевшее, что тонуло в постели.
Ставни раскрывались одна за другою. В окна, сквозь темные ветви старого хвойного палисадника, глянул далекий закат, оранжево догоравший в тучках. Бестужев, отойдя от умершего, распахнул одно из этих окон. В комнату, в застоявшийся, сложный запах лекарств, ощутительно потянуло чистым воздухом. Вошла заплаканная Наташа и стала выносить все то, что князь, с неделю тому назад, внезапно охваченный какой-то тревожной жадностью, приказал перетаскать к нему и разложить перед его глазами на столах и креслах: истертое казацкое седло, уздечки, медный охотничий рог, собачьи смычки, патронташ. Уже не стесняясь стучать, звенеть удилами и стремя о стремя, она делала дело с твердым и строгим лицом, сильно дунула, проходя мимо комода, на свечку… Князь был неподвижен, и неподвижны были его полуприкрытые, как бы слегка косившие глаза. Вечернее сухое тепло, смешанное с свежестью от реки, наполняло комнату. Солнце потухло, все поблекло. Хвоя палисадника сухо темнела на прозрачном, сверху зеленоватом, ниже шафранном море далекого запада. Щебетала за окном какая-то птичка, и щебет ее казался очень резок.
— Чего жалеть, — серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящик комода, вынимая оттуда чистое белье, простыни и наволочку на подушку. — Умерли смирно, всем так дай бог. А жалеть их некому, никого после себя не оставили, — прибавила она и опять вышла.
Бестужев, присев на подоконник, все глядел в темный угол, на постель, где лежал умерший. Он все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться. Но ужаса не было. Была только удивленность, невозможность осмыслить, охватить происшедшее… Неужели все разрешилось, и теперь можно говорить в этой спальне так свободно, как говорит Наташа? Впрочем, подумал Бестужев, она говорила о князе с той же свободой, — как о человеке, уже вышедшем из круга живых, — и раньше, весь последний месяц.
Со двора, из сумрака слабо и необыкновенно приятно пахло дымом. Это успокаивало, говорило о земле, о продолжающейся простой человеческой жизни. В стемневших лугах, на реке, ровно шумела водяная мельница… Неделю тому назад князь сидел возле ее ворот на старом жернове, — в шапке, в лисьей поддевке, худой и темноликий, согнувшись и упершись руками в серый ноздреватый камень. Старик, который привез смолоть несколько мер новины, щурясь, исподлобья посмотрел на него, развертывая веретье. «А уж и худ ты! — холодно и пренебрежительно сказал он князю, хотя прежде всегда говорил с ним почтительно. — Прямо никуда! Нет, теперь тебе житья немного. Тебе лет семьдесят будет?» — «Пятьдесят первый», — сказал князь. — «Пятьдесят первый! — насмешливо повторил старик, возясь с веретьем. — Не может того быть, — твердо сказал он, — ты намного старше меня». — «Вот дурак, — усмехнувшись, сказал князь, — да ведь мы росли вместе». — «Ну, росли, не росли, а житья тебе теперь немного», — сказал старик, натуживаясь, и, приподняв и прижимая к груди тяжелую, полную рожью меру, поспешно, приседая, пошел в шумящую, белую от муки мельницу…

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
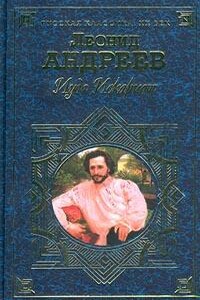
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.В седьмой том собрания входят: рассказы «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», «Степа», «Муза», «Поздний час», «Руся», «Красавица», «Дурочка», «Антигона» и др.А так же рассказы с 1931 по 1952 год: «История с чемоданом», «Остров Сирен», «Молодость и старость», «Возвращаясь в Рим» и еще более двадцати рассказов.http://ruslit.traumlibrary.net.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.В шестой том вошел роман «Жизнь Арсеньева».http://ruslit.traumlibrary.net.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.В девятый том вошли произведения: «Освобождение Толстого», «О Чехове», а также автобиографические заметки, дневники, записные книжки, воспоминания, статьи и рецензии, ранние статьи и интервью.http://ruslit.traumlibrary.net.

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор.Во второй том собрания входят рассказы: «Перевал», «Танька», «Кастрюк», «На хуторе», «Вести с родины», «На чужой стороне», «На край света», «Учитель», «В поле», «Святые Горы», «На даче», «Велга» и еще более двадцати рассказов.А также произведения, не включавшиеся И.А. Буниным в собрания сочинений: «Первая любовь», «Федосевна», «Мелкопоместные», «В деревне», «Кукушка», «Казацким ходом» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.