Том 4 - [49]
Вот тут и сказалась отцовская любовь к хорошим вещам — шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, воротники, шапки, бобровые шубы.
У мамы не было никаких бобровых шуб, и своей одеждой в трудный час она помочь не могла.
Навсегда из моей жизни исчезла мебель нашей квартиры именно в 1918 году. Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки.
В это же время я продавал жареные пирожки какие-то. Тут дело в том (это было время бумажных миллионов), что для выкупа карточек — а по ним не давали ничего — нужна была валюта советская, вот эти самые миллионы.
До червонцев было еще далеко — года два.
От церковных властей именно в тот момент после революции отец помощи и не мог получить, ибо черносотенное начальство — сам архиерей Трапицын — позаботилось, чтобы убрали отца из собора.
Вот тогда отец поступил на фабрику «Сокол», но потом заболел воспалением легких, а когда поправился, уже не было ни фабрики «Сокол», ни баронессы Дес-Фонтейнес.
У отца не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти.
Трудно сказать, считал ли он институт семьи выше института государства. В революцию эти коллизии были беспредметны.
Наоборот, уже слепым, он самым внимательным образом следил за моими выступлениями в школе — и когда мне от школы была поручена речь на выпускном вечере, заставил меня переписать черновик — и все острые места, а их у меня было немало, — заменить на пейзажные сравнения насчет пароходных колес. Отец испортил мою речь. Я должен был поклясться, что не произнесу ничего лишнего. Эта речь запала у меня в памяти как свидетельство духовной капитуляции, моего слабодушия.
Хотя это и было сочинено по законам гомилетики — речь разочаровала всех, и в том числе, и в первую очередь, меня самого.
Тут дело, наверное, было в том, что отец все еще верил, что мне при моих способностях открыты все дороги, — отец ошибался.
Я тоже лежал и спал в той же комнате, где кашлял и тяжело дышал отец с воспалением легких. Тогда ведь не было пенициллина и сульфадимезина. Отец встречал пневмонию один на один. Помощь врачей была в компрессах, в прослушиваниях, выстукиваниях. Выслушивание и простукивание — это ведь не лечение.
Каждую ночь во время этой болезни отца поднимали с кровати для обыска. Кедровские обыски были каждую ночь более года, — по тогдашней квартальной профилактике.
Обыск был еженощный и очень тщательный, иногда — дважды в ночь. Не знаю, какие мотивы повторных обысков, кроме устрашения.
Отец поправился, но это не было нужно — ни ему, ни семье, ни судьбе.
Общением с революцией были не только обыски, но страшные фигуры подлинных грабителей, — выволакивавших вещи при униженной улыбке матери.
Эти самореквизиции запомнились мне самому навечно.
Семья наша не попадала в реквизицию — кроме шуб, у нас не было ничего. Но под обысками квартира была не один год. Все ценности вытаскивались цепкими руками. За месяц исчезла крупа — все исчезло.
Второй, тоже впечатляющей картиной тех же лет было вселение, уплотнение.
Тут разговаривать не приходилось — матери оставалось молить Бога, чтобы квартиранты попадались поприличнее. И действительно, у нас жил сначала какой-то Сергей Иванович, а потом семья военного инженера Красильникова. Их было трое. Мать-старушка, сам инженер и его жена, лет двадцати пяти. Но нам случайно повезло тем, что комната попала в руки приезжих.
Гораздо хуже было уплотнение. Во флигеле, где жил дьякон, в одну из квартир был вселен Рожков, кузнец ВРМ — ударник производства, как теперь говорят, — и член партии. Ордера на квартиры давались только членам партии — лучше, если до февраля 1917 года.
Во всяком случае, первые вселения, первые ордера давались только членам партии.
В одну из комнат был вселен Рожков с женой и годовалым ребенком, гигант-алкоголик.
Каждый день Рожков возвращался с работы, выпивал самогон — водка ведь была запрещена в России целых десять лет, с 1914 по 1924 год, — выгонял к утру жену простоволосую, и спектакль начинался. Оскорбления матерной руганью в лицо этой женщины. Пудовый кулак Рожкова хлестал по лицу, по ребрам, по спине. Кончалось это тем, что кузнец сбивал жену с ног и топтал. Женщина только стонала.
Никто из зрителей никогда в таких случаях не вступается. Не вступались и в Вологде. Я стоял у дома, глядя на всю эту сцену из щели дверей. Сердце мое билось.
За спиной я услышал дыхание матери.
Рожков погнал жену куда-то на улицу, догнал и поддал ей жару.
— Вот таким, — сказала мама моя, — я не хотела бы, чтобы ты вырос.
Я таким и не вырос, мама!
Второй случай такого же рода коснулся меня. Я красил лодку отца — все остальное было продано, но лодка осталась. Никто на ней не ездил, но краску берегли для кого-то, для чего-то. Потом и эта лодка исчезла.
Наверху, над нами, в порядке такого же уплотнения, поселилась семья столяра заводского Корешкова. Туберкулезный больной, лет сорока, Корешков работал в железнодорожных мастерских.
Пока я красил лодку, Корешков тоже смотрел, как спускается котенок сверху по трубе водосточной, я хотел помочь этому котенку спуститься и снял его на землю, но сверху раздался истерический гром угроз истребить все поповское семя, и через две минуты Корешков был передо мной и размахнулся, чтобы ударить; была, к счастью, мама, красила лодку со мной, не дала ему этого сделать. Но ругани, истерической брани тут было много.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».
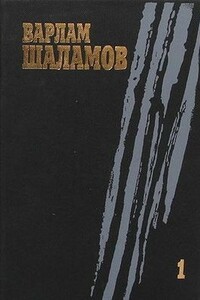
В первый том Собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) вошли рассказы из трех сборников «Колымские рассказы», «Левый берег» и «Артист лопаты».
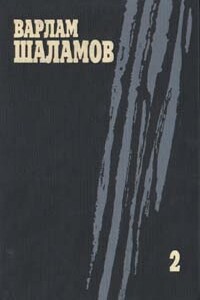
Во второй том Собрания сочинений В. Т. Шаламова вошли рассказы и очерки из сборников «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», а также пьеса «Анна Ивановна».
