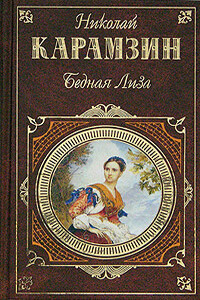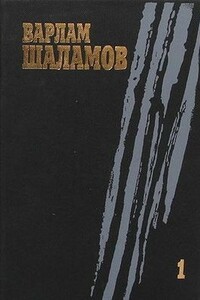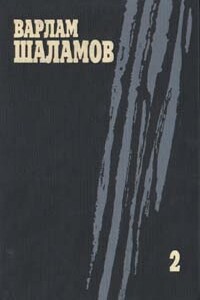Есть управление автохозяйства, очень большое, со своими мастерскими, автобазами, — не меньше тысячи машин, работающих день и ночь, зиму и лето. Заключенных там очень много. И шоферы, и автослесари, и т. д. Но все это, конечно, — не золото.
Есть управление подсобными предприятиями — всевозможными мастерскими пошива, отнюдь не индпошива. Если для высадки в Нормандии требовалось астрономическое количество солдатских пуговиц, для чего пришлось создавать в Англии большую организацию, — то сколько надо рабочих, чтобы шить беспрерывно (а главное, беспрерывно чинить) известные лагерные «бурки» из старых брюк и телогреек.
Есть заводы ремонтные, которые давно перестали быть ремонтными, а стали механическими, строящими станки (чтоб освободить Колыму от «импортной» зависимости в виде машин с «материка»).
Есть заводы по производству аммонита, электролампочек и т. д., и т. д. Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы, своя жизнь.
Словом, на Колыме важна не только «общая» удача — попасть на хорошую работу, в придурки, или получить «кант», — но и попасть в то или иное из десятков управлений Колымы, где в каждом — разная, особая жизнь.
Страшнее всего, зловещее всего — это золото, золотые прииски. Ничто другое в сравнение не идет. Если в других местах были месяцы трудностей или есть штрафзоны непереносимые, то на золоте каждый самый благополучный прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны любого другого управления. Загнать на золото — вот чем грозят везде, во всех управлениях. А работа на золотых приисках — это 90 % всех людей Колымы. Для этих забоев по всем управлениям беспрерывно работают комиссии, чтобы вогнать каждого трудоспособного именно на золотые прииски.
В этом беспрерывном страхе — заключенных за свою судьбу, а начальства — за свою недостаточную бдительность — тоже один из важных растлевающих моментов лагерной жизни.
Теперь о генерале Горбатове, о четвертом нашем мемуаристе. Его воспоминания[144] — самое правдивое, самое честное о Колыме, что я читал. Горбатов — порядочный человек. Он не хочет забыть и скрывать своего ужаса перед тем, что он встретил на прииске «Мальдяк» — когда его привезли на Колыму в 1939 году. Посчитайте время с момента, когда он приехал и начал работу в забое, и до того часа, когда он заболел и был отправлен как необратимый инвалид в Магадан (в больницу на 23-м км). Там была Центральная больница для заключенных. Там я окончил фельдшерские курсы и об этих курсах написал (не тогда, конечно, а много позднее). Посчитав все сроки, Вы увидите, что Горбатов пробыл на «Мальдяке» всего две-три недели, самое большее полтора месяца, и был выброшен из забоя навечно как человеческий шлак. А ведь это был 1939 год, когда волна террора уже спала, спадала. Горбатов приехал на Колыму «к шапочному разбору» и все же был напуган, ошеломлен навек. О самом прииске «Мальдяк» Горбатов недостаточно осведомлен. Это — большой прииск, а Горбатов был на одном из участков «Мальдяка», где было всего 800 человек с фельдшером зэка. Начальником санчасти прииска «Мальдяк» была в то время молодая женщина, молодая врачиха Татьяна Репьева, которой колымская ее административная власть и офицерские пайки так понравились, что она осталась там на всю жизнь. Еще год-два назад ей к 25-летию Дальстроя выходил какой-то важный орден. Список награжденных печатался в «Правде».
Горбатов и о ворах правдиво написал, об их лживости, об их правилах нравственности в отношении фраеров, об открытом разбое.
Попасть в то или иное управление — случайность. Конечно, если не иметь в виду всевозможных «спецкарт», «разработок» и «меморандумов». Но каждый бывший заключенный, желающий говорить от имени лагерной Колымы, не имеет права забыть о том, что творилось на золоте, — все равно — дорожник ли он, расконвоированный или лагерный стукач, работающий статистиком в КВЧ. Ведь никакого секрета, никакой тайны приисков не было. Кроме того, для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки — палки вполне реальной, палки отнюдь не в переносном смысле как некий род гонкого духовного принуждения. Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растления? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно тяжелой физической подневольной работы.
Нет ничего циничнее надписи, которая висит на фронтонах всех лагерных зон: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».
В «Колымских рассказах» я старался указать на важные закономерности человеческого поведения, которые неизбежно возникают в результате тяжелой работы на морозе, побоев, голода и холода.
Блатари (мир, который подлежит беспощадному уничтожению) за свое нежелание работать заслуживали бы уважения, если бы уклонения их от работы не оплачивались щедро чужой кровью, кровью несчастных фраеров.