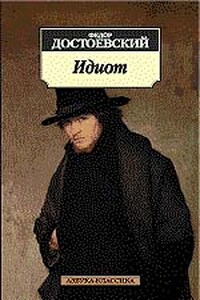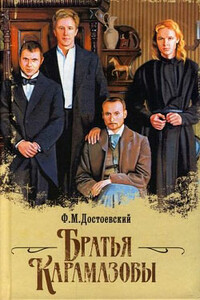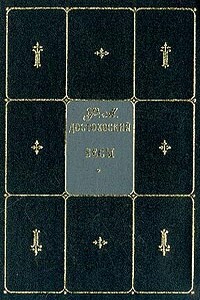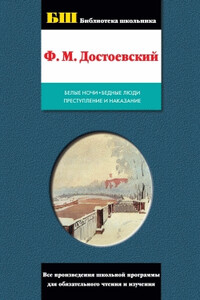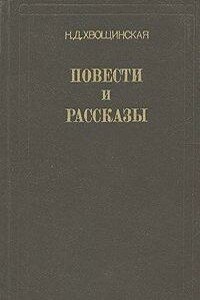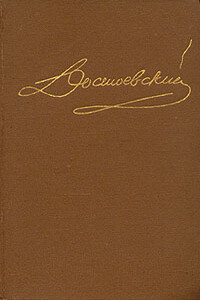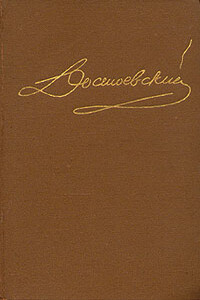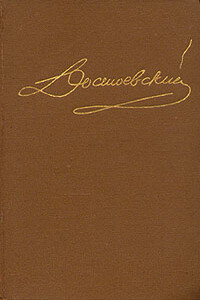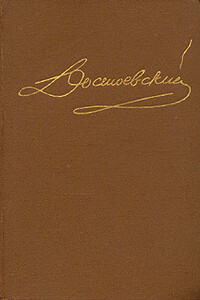Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости. Но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней. И чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алеши довели наконец нас до той степени, когда стоит только показать пальчик, как гоголевскому мичману>*, чтоб тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алеше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти пять дней, и что вместо того все так веселы.
Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алешу, перестала смеяться.
— Что же ты хочешь рассказать? — спросила она.
— А что, поставить, что ль, самовар? — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алешу.
— Ступай, Мавра, ступай, — отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. — Я буду рассказывать всё, что было, всё, что есть, и всё, что будет, потому что я всё это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти пять дней, — это-то я и хочу рассказать; а вы мне не даете. Ну, и, во-первых, я тебя всё время обманывал, Наташа, всё это время, давным-давно уж обманывал, и это-то и есть самое главное.
— Обманывал?
— Да, обманывал, уже целый месяц; еще до приезда отца начал; теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто — и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался, — объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство; что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому, чтоб приготовлялся, чтоб выбил из головы все мои вздоры и так далее, и так далее, — ну, уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил…
— Совсем не утаил! — перебила Наташа, — вот чем хвалится! Л выходит, что всё тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и всё письмо нам по отрывкам и рассказал.
— Не может быть, главного, наверно, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, это уж ваше дело, а я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал.
— Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно советовались и всё мне рассказали, отрывками, разумеется, в виде предположений, — прибавил я, смотря на Наташу.
— Всё рассказал! Уж не хвастайся, пожалуйста! — подхватила она. — Ну, что ты можешь скрыть? Ну, тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра всё узнала. Знала ты, Мавра?
— Ну, как не знать! — отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову, — всё в три же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить!
— Фу, какая досада с вами разговаривать! Ты всё это из злости делаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я, помню, был тогда как сумасшедший; помнишь, Мавра?
— Как не помнить. Ты и теперь как сумасшедший.
— Нет, нет, я не про то говорю. Помнишь! Тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать; а главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это всё тебя Наташа приучила. Ну, положим, я действительно всё вам рассказал тогда же, отрывками (я это теперь припоминаю). Но тона, тона письма вы не знаете, а ведь в письме главное тон. Про это я и говорю.
— Ну, а какой же тон? — спросила Наташа.
— Послушай, Наташа, ты спрашиваешь — точно шутишь. Не шути. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть скорее Лиссабон провалится>*, чем не сбудется по его желанию; вот какой тон!
— Ну-ну, рассказывай; зачем же тебе надо было скрывать от меня?
— Ах, боже мой! да чтоб тебя не испугать. Я надеялся всё сам уладить. Ну, так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно, да всё как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал; хитрец! Напротив, показывал такой вид, как будто уже всё дело решено и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, не может быть даже; такая самонадеянность! Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович, если б вы знали! Он всё читал, всё знает; вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли, как свои, знает. Вот за это-то, верно, и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну, так вот… а кстати! Он мне денег сначала не давал, а теперь дал, вчера. Наташа! Ангел мой! Кончилась теперь наша бедность! Вот, смотри! Всё, что уменьшил мне в наказание, за все эти полгода, всё вчера додал; смотрите сколько; я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег! Теперь уж не будем ложки да запонки закладывать!
Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, тысячи полторы серебром, и положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его.