Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества - [159]
Человек растет. Но и, кроме того, человечество тоже растет и стареет, — люди не во все века рождаются «одинаковыми младенцами». Одинакового рождения нет. Сама утробушка — нация — имеет годы, возрасты, молодую или старую душу в себе, и, будьте уверены, сейчас рождающиеся от нас дети совсем не те, какими рождались мы сами, и мы родились совсем другими, чем как родились современники Карамзина и Жуковского. То, что сбивчиво называют «наследственностью», скорее, есть вот именно это состарение поколений, расширение их опыта уже до рождения, расширение их зрения, утолщение их зрелости. Дети отнюдь не повторяют родителей, а ведь таков смысл слова «наследственность», «наследование». Дети, скорее, отрицают родителей и, во всяком случае, идут дальше, хотя тою же дорожкой, по которой двинулись отцы. Наследственность есть продолжение, а не повторение. И продолжение в сторону не «лучше», а — шире, не добродетельнее, а — виднее.
Это — вообще; и, наконец, как исключение рождаются иногда люди «вперед» или — «назад», как выпад из поколения грядущего или, напротив, давно прошедшего. Они или непомерно стары в данном живущем поколении, или непомерно в нем же молоды и остаются такими в течение всей жизни. Пример в литературе второго — Жемчужников, который в «Песнях старости», написанных в 70-летнем возрасте, остается «молодым человеком», которому по строю души хоть сейчас жениться. Пример старости в литературе — Лермонтов. Он в возрасте самых юных лет — уже старик, с жалобами на старость, со старческой усталостью, которая редко-редко прорезается бравурными молодыми выходками, но и в них он — кутящий старичок («Уланша», «Сашка»), с типичным старческим цинизмом, без всякого идеализма молодости. Лермонтова переутомил его возраст, вот этот метафизический возраст, с которым он уже родился и, будучи 24 лет, — чувствовал, мыслил и писал как столетний, относился ко всему в жизни как столетний. Что же молодого в тоне «Купца Калашникова» или не суть ли столетние эти мысли и ощущения в «Выхожу один я на дорогу», в «Ветке Палестины», в «Гляжу печально я на ваше поколение» — да и везде, почти везде. Белинский дивился, как он, юноша, угадал тон матери в «Казачьей колыбельной песни». Но у него есть и тон бабушки, или, вернее, тон старой-старой матери, которой пора бы бабушкой быть, — а только дочери ее остались «без судьбы». И вот ей воображаются и безмолвные упреки этих дочерей небу, и конечная жалкая их судьба.
Без введения категории старости и юности в литературе нельзя понять славянофильства и особенно исторической судьбы его. Славянофильство мне представляется существом с чудовищною головою, но совсем без ног и без рук, — не ходящим или каким-то «стопоходящим», по сажени в сутки и не больше. Кому теперь придет на ум учиться у Белинского, между тем С. А. Рачинский, профессор ботаники, переводчик Дарвина и Шлейдена, в свои 60 лет советовал мне «читать Хомякова и учиться у него», сам, очевидно, многому у него научась. Это было в 90-х уже годах минувшего века.
В «Образах прошлого» Гершензона есть превосходная статья о П. В. Киреевском. Это брат философа и теоретического основателя славянофильства, редактора, издателя «Европейца», И. В. Киреевского. Он всю жизнь собирал народные песни, былины и пр., — и с его собирания началось систематическое и научное отношение к народному поэтическому, песенному творчеству. Здесь он положил первый камень и покрыл его мудрыми надписями.
Начиная его биографию, Гершензон хорошо говорит, — что в ней повторяются черты биографий всех прочих славянофилов.

В автобиографической книге автор показывает дворянско-крепостническую среду, в которой формировался характер Сережи Багрова, раскрывает влияние на мальчика родной природы, общения с ней.

Как ведут себя животные в «их домашней жизни», когда им не грозит опасность, как устраивают свои жилища, как «воспитывают» детёнышей — об этом написано много. В этой книге собраны коротенькие рассказы русских писателей. Вы прочтёте здесь о кошках, о зайцах, о муравьях, о волках, о воробьях, о лебедях, о лисе и о медведе.

В книгу вошли известные сказки русских писателей XIX века: волшебная повесть «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского (1787–1836); «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859); «Девочка Снегурочка», «Про мышь зубастую да про воробья богатого», «Лиса лапотница» Владимира Ивановича Даля (1801–1872); «Городок в табакерке» и «Мороз Иванович» Владимира Фёдоровича Одоевского (1804–1869); «Конёк-горбунок» Петра Павловича Ершова (1815–1869); «Работник Емельян и пустой барабан», «Праведный судья» Льва Николаевича Толстого (1828–1910); «Лягушка-путешественница» и «Сказка о жабе и розе» Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888). Все сказки наполнены глубоким смыслом и обладают непреходящей ценностью.

Сказку «Аленький цветочек» записал известный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859). Он услышал ее в детстве во время своей болезни. Писатель так рассказывает об этом в повести «Детские годы Багрова-внука»:«Скорому выздоровлению моему мешала бессонница… По совету тетушки, позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать… Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная… села у печки и начала говорить, немного нараспев: „В некиим царстве, в некиим государстве…“Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного?На другой же день выслушал я в другой раз повесть об „Аленьком цветочке“.
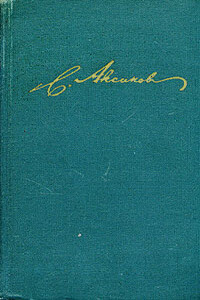
Чародей слова, проникновенный поэт природы, тонкий психолог — таким вошел в сердце русского читателя автор "Семейной хроники" и "Детских годов Багрова- внука". Также в книгу входит сказка Аленький цветочек.Содержит цветные иллюстрации.Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)Том 1. — Семейная хроника; Детские годы Багрова-внука. — 599 с. — с. 55–260.

От издателяВ сборник вошли стихи и рассказы русских поэтов и писателей о нашей родной природе, а также русские народные загадки, приметы, пословицы и народный календарь.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Письма и дневники / Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского. — Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. — 488 с.Издание полного собрания трудов, писем и биографических материалов И. В. Киреевского и П. В. Киреевского предпринимается впервые.Иван Васильевич Киреевский (22 марта / 3 апреля 1806 — 11/23 июня 1856) и Петр Васильевич Киреевский (11/23 февраля 1808 — 25 октября / 6 ноября 1856) — выдающиеся русские мыслители, положившие начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточнохристианской аскетики.В третий том входят письма и дневники И. В. Киреевского и П. В. Киреевского.Все тексты приведены в соответствие с нормами современного литературного языка при сохранении их авторской стилистики.Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной духовной культуры.Составление, примечания и комментарии А.

Издание полного собрания трудов, писем и биографических материалов И. В. Киреевского и П. В. Киреевского предпринимается впервые.Иван Васильевич Киреевский (22 марта /3 апреля 1806 — 11/23 июня 1856) и Петр Васильевич Киреевский (11/23 февраля 1808 — 25 октября /6 ноября 1856) — выдающиеся русские мыслители, положившие начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточнохристианской аскетики.В первый том входят философские работы И. В. Киреевского и историко-публицистические работы П.