Том 4. Богомолье - [3]
«Скорби» печатались в газетах гораздо меньше – только «Москва», «Серебряный сундучок» и «Соборование», – все в послевоенной «Русской мысли» в июне, декабре 1947 и в феврале 1948 года. Помимо каких-то внешних обстоятельств можно предположить, что Шмелев не хотел давать в прессу самое личное и самое горькое, ибо сюжет «Скорбей» – борьба с болезнью, улучшение и ухудшение состояния, молитвы, надежды на исцеление, таинства, приготовления к смерти и, наконец, кончина и похороны отца.
Но так ли уж беспросветна эта скорбная книга? Еще в «Богомолье» Горкин, ведя ребенка по Святой дороге и показывая ему болезни и страдания, говорит: «От горя не отворачивайся». Но запрещает находиться в трактире рядом с пьяницами: «Не годится на грех смотреть». Страдания и смерть не так страшны, как страшен грех – об этом говорится в «Радостях – Скорбях». Отец героя был добрый человек, за него «молельщиков много», он исповедался и причастился, соборовался перед смертью – значит, смерть ему не страшна. Шмелев описывает таинства исповеди и елеосвящения, цитирует «Канон молебный при разлучении души от тела», церковную службу по усопшему…
Получается, что в «Праздниках» рассказывается о родовых обрядах православной веры, о том, как жить по вере, а в «Радостях – Скорбях» – как умереть в вере, спасая свою душу. «Душе моя, душе моя, восстани, что спише» – этот кондак из «Великого канона» св. Андрея Критского, читаемый Великим постом, приводится в первых главах «Праздников». И те же слова повторяются вновь как часть «Канона молебного на исход души» в последних главах «Скорбей» Они как бы замыкают, окольцовывают книгу. Возможность спасения души, бессмертия – вот что важно для Шмелева. Это-то и придает его книге, несмотря на скорбность содержания, свет и радость, о которых он писал Ильину 4 апреля 1945 года: «Закончил 2-ую часть «Лета Господня», – а большие главы, самые тяжелые для сердца, – болезнь и кончина отца – завершил осиявшим меня светом и нашел заключительный аккорд… И воспел: «Ныне отпуща-ешь…»[7].
Но для нас «Лето Господне» связывается не только с судьбой отца; эта «русская эпопея» связана с жизнью России. Отец всегда возникает в книге на фоне Москвы. И на «бытовом уровне»: он устраивает в городе иллюминации, балаганы, сплавляет лес по Москве-реке; и – внутренне, душевно. Перед смертью читает стихи о Москве, с высоты Воробьевых гор, любуясь городом, вдруг замечает: «А где же Чудов?., что-то не различу? <…> а раньше видал отчетливо. Мелькнуло чуть… или глаза ослабли?»
Глаза, конечно, ослабли; но ведь когда Шмелев писал эту главу, Чудова монастыря в Кремле уже не было! Как не было и Воскресенского, и Страстного монастырей, и храма Христа Спасителя, и Афонской, и Иверской часовен, и церквей – Воскресения Словуще-го, Константина и Елены, Косьмы и Дамиана, Никиты Мученика, Параскевы Пятницы, Спаса на Бору, Троицы в Лужниках – и даже Сухаревой башни, столь не случайно упоминаемых в «Лете Господнем». Потому-то и видит Шмелев Москву всегда «в туманце» – это туман умиленной памяти. Потому, когда в сцене похорон он пишет: «Я знаю: это последнее прощанье, прощанье с родимым домом, со всем, что был о…» – мы понимаем, что его книга тоже прощание с родным домом, с родной Москвой, с Россией – которые были.
Но если не страшна смерть отца, то не страшна и утрата России. Ибо то, что составляет ее нетленную сущность, утратить невозможно. Идеал неуничтожим. А ведь именно идеал, а не только бытовую, подробную, этнографическую оболочку показывает Шмелев. Он изображает не просто замоскворецкую среду, но благочестивых людей, бережно хранящих Предание и знающих Священное Писание. Этим-то его книга и отличается от других «ностальгических» романов эмиграции: «Жизни Арсеньева» Бунина, «Юнкеров» Куприна, «Путешествия Глеба» Зайцева. Его Россия – православная Россия. И как душа человеческая неуничтожима, так – воспользуемся словами Ильина – неуничтожима и душа Родины: «О младенческое сердце нашей России, ныне соблазненное и страдающее, но не погубленное и непогубимое вовек! О сияние родного солнца! О благодать родных молитв! И все это не «было» и не «прошло». Это есть и пребудет. Это навеки так».[8]
К этому, как нам кажется, и пришел Шмелев в своих поисках «утраченной России». И потому так светлы и радостны страницы его скорбной эпопеи, и потому так светел цикл Бальмонта, посвященный всему роману:
1
2
3
4

«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.«Лето Господне» (1927–1948) является самым известным произведением автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. (YMCA-PRESS). Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».

Эпопея «Солнце мертвых» — безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей ХХ века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию «Солнца мертвых», письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних «горячих точках», эпопея «Солнце мертвых», к сожалению, опять актуальна.Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:«Читайте, если у вас хватит смелости:».

В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним.Для среднего школьного возраста.
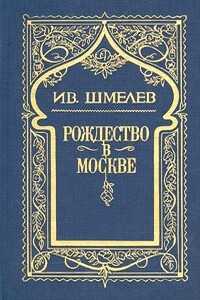
Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.Иллюстрации Т.В. Прибыловской.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
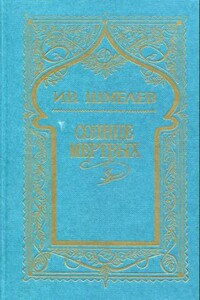
Первый том настоящего собрания сочинений И. С. Шмелева (1871–1950) посвящен в основном дореволюционному творчеству писателя. В него вошли повести «Человек из ресторана», «Росстани», «Неупиваемая Чаша», рассказы, а также первая вещь, написанная Шмелевым в эмиграции, – эпопея «Солнце мертвых».http://ruslit.traumlibrary.net.
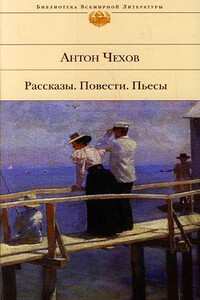
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
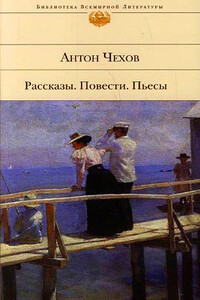
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
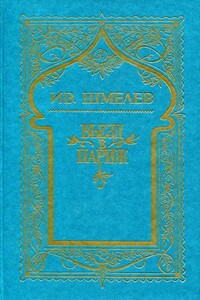
В настоящий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли рассказы и очерки, написанные им в эмиграции. Среди них есть и хорошо известные российскому читателю произведения, и те, которые не публиковались в нашей стране.http://ruslit.traumlibrary.net.
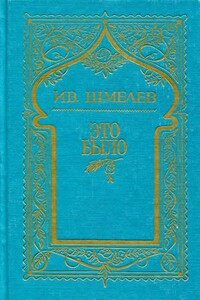
В 7-й (дополнительный) том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли произведения, в большинстве своем написанные в эмиграции. Это вещи малознакомые, а то и просто неизвестные российскому читателю, публиковавшиеся в зарубежных изданиях.http://ruslit.traumlibrary.net.
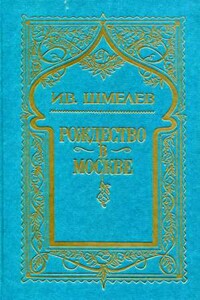
В третий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошел роман «Няня из Москвы», а также рассказы 1930-1940-х годов, взятые из посмертного сборника писателя «Свет вечный» (Париж, 1968).Иллюстрации Т. В. Прибыловской.http://ruslit.traumlibrary.net.

8-й (дополнительный) том Собрания сочинений И. С. Шмелева составили ранние произведения писателя. Помимо великолепных рассказов и очерков, читатель познакомится также со сказками, принадлежащими перу Ивана Сергеевича, – «Степное чудо», «Всемога», «Инородное тело» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.