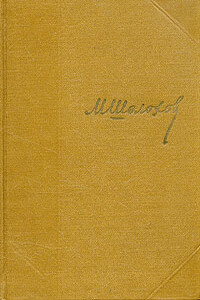Том 3. Журавлиная родина. Календарь природы - [192]
Пришвин ответил на письмо, что в «Огоньке» посредством фотографий было подчеркнуто не поэтическое, а очерковое значение рассказа. Пришвин соглашается, что в охоте есть жестокость, но это «безвинная страсть». Пр существу, охотник не жесток, поскольку прежде всего он заботливый хозяин (там же).
Охота – спутник жизни Пришвина с детских лет и до последних дней жизни. «Одно для меня ясно, что охота неразрывно связана с детством, что старый охотник – это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой», – пишет Пришвин («Охота за счастьем»). Сохранив в душе своей ребенка, Пришвин приобрел удивительную свободу писать свои рассказы и очерки одинаково интересно для детей и взрослых. Среди охотничьих рассказов Пришвина есть давно сложившийся и устоявшийся цикл, названный им «Охотничьи были и сказ». В этот цикл входят рассказы, которые заслуженно признаны классическими детскими рассказами.
Свое отношение к детскому рассказу Пришвин сформулировал так: нет резкого отличия между творчеством для детей и взрослых. С детьми надо говорить так же на равных правах, только, возможно, короче и сердечней. Умеренная дидактика, как известно, не вредит детскому рассказу, но Пришвин обосновал возможность обходиться без дидактики. В его рассказах морали нет ни в открытой, ни в закрытой форме, и тем не менее пришвинские «рассказики» оказывают огромное влияние на духовный мир ребенка. Здесь проявляется особенное его умение включить ребенка в познание мира без заранее намеченной цели.
В «Рассказах егеря» мы видим все тот же принцип вживания & природу – родственное внимание к окружающему миру. Обладая удивительным даром рассказчика – просто говорить о простых вещах, – Пришвин тем самым как бы воссоздает «документальность» события. Высокое благородство простоты заметно и в том, что Пришвин не гоняется «за словом», он ищет характерную обстановку, находит ее в местечке Зимняк на Дубне, в трактире Ремизова, и воспроизводит ее, считая «ключом всей устной словесности Московского Полесья». Здесь он услышал рассказы о Ленине от егеря Алексея Михайловича Егорова. Сохранив простоту рассказа егеря, Пришвин передал народное восприятие и дела, и облика Ленина. И это восприятие, как видно, поразило самого писателя, открыло ему в облике вождя новые черты, близкие и дорогие народу. В 1953 году он пишет: «Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии. Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного, – Грибоедов чудесно сказал: „Пишу, как живу, и живу, как пишу“» («Кащеева цепь»).
Большинство исследователей жизни и творчества Пришвина отмечают трудные поиски правильного подхода писателя к послереволюционной действительности. Стремление разобраться в противоречиях переходного периода приводит Пришвина к новому жанру – «исследованию журналиста». В 1923 году он написал очерк «Домашние боги» о башмачниках и вскоре получил от Организационного бюро центрально-промышленной области при Госплане задание провести художественно-социологическое исследование быта башмачпиков. Пришвин создаст ряд «производственных» очерков, в том числе «Башмаки», «Торф», «Мох». И в очерке «Башмаки», и в очерке «Торф» Пришвин выступил против обезличивания труда. Исследуя организацию труда и быта рабочих, он показывает, как все это связано с производительностью труда и что правильное решение этих вопросов может оказать сильнейшее влияние на становление и сплочение коллектива и воспитание человека в нем.
Но Пришвин-художник в «производственных очерках» не подчинился вполне Пришвину – публицисту и исследователю. Он верен себе, он знает, что «физиономия» местного человека определится сама, если он правильно поймет его естественную жизнь в природе, то есть через лицо края он воссоздаст и лицо рабочего человека. В результате такого подхода у очеркиста складывается определенное представление о человеке, или, как говорил Пришвин, «центральное ощущение», вокруг которого он располагает и весь остальной материал – прием, используемый ныне широко в художественной публицистике.
«Я уверен, – писал Пришвин в очерке „Девятая ель“, – что всякую газетную статью, рецензию, даже книгу чисто техническую можно написать как роман, если поэт постарается в своей творческой личности подыскать точное соответствие факту и согласовать с ним себя самого» («Октябрь», 1930, № 3, с. 124).
Критика заметила эти очерки, вокруг них завязалась полемика. «Исследование журналиста» Михаила Пришвина производит странное впечатление… Михаил Пришвин развел ненужную болтовню «о том, о сем» на восьмидесяти шести страницах. Кимровского башмачника и его башмака не видно… Пришвин идеалом подхода к деревне считает «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта, того самого Энгельгардта, против которого много язвительных страниц написали Плеханов и Ленин… В результате – «исследование журналиста», начиненное эсеро-народнической идеологией, и идеализация кустаря, «как всемирного противника механизации, артиста», – писал критик К. Грасис

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.

В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M. M. Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны.Иллюстрации художника С. M. Харламова.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
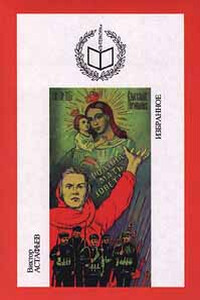
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.http://ruslit.traumlibrary.net.
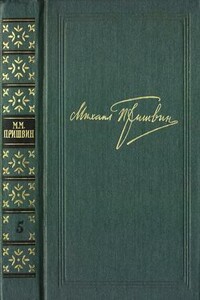
В пятый том вошли произведения тридцатых – начала пятидесятых годов: «Лесная капель», «Повесть нашего времени», «Кладовая солнца» и другие рассказы.http://ruslit.traumlibrary.net.

В седьмой том Собрания сочинений M. M. Пришвина вошли произведения, созданные писателем по материалам его дневников – «Натаска Ромки» (Из дневника охоты 1926–1927) и «Глаза земли».http://ruslit.traumlibrary.net.

Четвертый том Собрания сочинений М. М. Пришвина составили произведения, созданные писателем в 1932–1944 гг. повести «Жень-шень», «Серая Сова», «Неодетая весна», рассказы для детей и очерки.http://ruslit.traumlibrary.net.