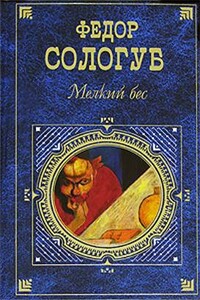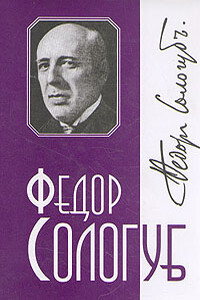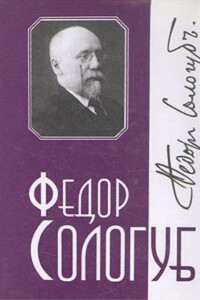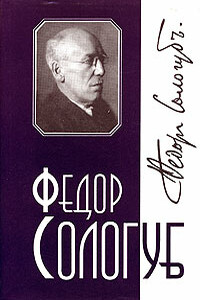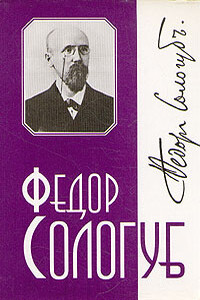Красивый мальчик с гордою улыбкою, самоуверенный, умный, благородный. Ему доступны вершины почестей, – он – дворянин, он отважен. Она перед ним такая ничтожная и глупенькая. И он любит ее.
Ах, если б у нее вдруг сделалось прозрачное, эфирное тело! Сбросила б тесное платье, полетела бы к милому, легкая, воздушная. Не задержали бы ни высокие заборы, ни крепкие запоры. Сквозь стены проникла бы, как влажное дыхание, отклоняющее пламя пристенной свечи. Прилетела бы голубою тенью, никем не видимая, прильнула бы к нему, – нагие руки ему на плечи, нежные губы к его губам, – тихонько шепнула б ему: «Здесь я, милый мой!» – и тайными поцелуями опьянила бы, очаровала бы его!
Скрипнула дверь, разбились мечты, вошла старуха нянька, вынянчившая еще Шанину мать. Теперь, хоть Шанька и подросла, а нянька все жила, уже четвертый десяток лет, при Марье Николаевне: она была «свой человек» в доме, хозяева ей доверяли, и она зорко охраняла хозяйское добро.
– Притулилась, ясочка ненаглядная, – нежным шепотом заговорила нянька, гладя Шаню по голове.
Шаня почувствовала боль в корнях волос, – память отцовской таски, – нетерпеливо тряхнула головою и опустила ее на деревянное изголовье. Ей стало досадно, зачем помешали мечтать, и она не хотела повернуть к няне недовольного лица. А нянька стояла над Шанькою, глядела на нее добрыми старушечьими глазами и утешала ее простыми, глупыми словечками. В странном беспорядке теснились в Шани-ном слухе и голуби, и генералы, и светики ненаглядные, – какая-то ласковая чепуха, – и Шаня поддавалась ее льстивому обаянию.
– Скажи, няня, сказку, – молвила она, глянув на няньку одним глазом.
Няня присела рядом с Шанею и заговорила сказку про какого-то вольного казака. Шаня не вслушивалась и мечтала себе о своем. Вдруг няня замолчала. Шаня открыла глаза и приподняла голову. Мать стояла перед нею.
– Мой-то сокол улетел! – сказала она няне. Няня завздыхала и заохала.
– К сударушке своей! – злобно сказала Марья Николаевна. – Ну а ты, Шанька, что сиротой сидишь? Подь к матери, – хоть я тебя приласкаю.
Марья Николаевна села на Шанину кровать и притянула к себе дочку. Шаня прильнула щекою к ее груди, – мать посадила ее к себе на колени.
– Ох, горюшко мне с тобой, – говорила она, поглаживая и похлопывая дочь по спине. – Все-то ты отцу досаждаешь. Вот сапоги-то все не переменила, так в глине и щеголяешь.
Шаня соскочила с колен матери, села на пол и принялась стаскивать ботинки.
– Надень туфли, – сказала мать.
– Я лучше так, мамуня, – тихонько ответила Шаня, сняла чулки и опять забралась на колени к матери.
– И с ним-то горе, – говорила меж тем Марья Николаевна няне. – Я ли его, злодея моего, не любила, не лелеяла! А он, натко-сь, завел себе мамоху, старый черт!
– И на что позарился, – подхватила няня, – сменял тебя, мою кралечку, на экое чучело огородное.
– Что уж он в ней, в змее, нашел! – досадливо говорила Марья Николаевна. – Чем она его обошла! Только что молодая, да жирная, что твоя корова. Так ведь и я не старуха, слава Тебе Господи.
– И, касатка! – убедительно сказала няня. – Недаром говорится: полюбится сатана пуще ясного сокола.
– Она – белая, – вдруг сказала Шаня, приподнимая голову.
– Ах ты! – прикрикнула мать, – с тобой ли это говорят! Не слушай, чего не надо, не слушай!
И мать сильно нашлепала Шаньку по спине, но Шанька не обиделась, а только плотнее прижалась к матери.
– И я-то дура! – сказала Марья Николаевна, – говорю при девке о такой срамоте.
– Ох, грехи наши! – вздохнула няня.
– Что, Шанька, оттаскал тебя отец за волосья? И за дело, милая, – не балахрысничай.
– Чего ж заступалась? – шепнула Шаня.
– Так, что уж только жалко. И что из тебя выйдет, Шанька, уж и не знаю, – вольная ты такая. Только мне с тобой и радости было, пока ты маленькая была.
– Я, мамушка, опять маленькая, – еще тише шепнула Шаня и закрыла глаза.
Марья Николаевна вздохнула, прижала к себе дочку и, слегка покачивая ее на коленях, запела тихую колыбельную песенку:
Ходит бай по стене, –
Охти мне, охти мне.
Что мне с дочкою начать, –
Бросить на пол иль качать?
Уж я доченьку мою
Баю старому даю.
Баю-баюшки-баю,
Баю Шанечку мою.
Шане было грустно и весело, – душа ее трепетала от жалости к матери.
Вечерело. Вокруг дома пусто и глухо. Только изредка слышна трещотка городского сторожа: это – двенадцатилетний мальчик, которого послал за себя ленивый отец; слышен изредка протяжный крик мальчугана. Доносится лай собак, их злобное ворчанье и глухое звяканье их цепей. В самом доме – неопределенные шорохи старого жилья. Строго смотрят иконы в тяжелых ризах, в больших киотах. Угрюма неуклюжая мебель, в строгом порядке расставленная у стен. В холодном паркете тускло отражаются затянутые тафтою люстры. Скучно и хмуро. От лампад, готовых затеплиться, струится елейный, смиренный запах. Марья Николаевна опять жалуется няньке, а Шанька опять слушает, тихонько сидя в уголке, и молчит.
Хоть и не бедны Самсоновы, а все-таки жизнь в их доме имеет определенный мещанский уклад: просты отношения между обитателями дома и наивно-откровенны; прост сытный обед и плотный ужин; просты наивно-плоские беседы и бесцеремонны домашние одежды.