Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения - [36]
Ольсен остановился: глухой, с шумом воды, пришел издалека голос: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам! Это я, твоя милая сестра Марта, и твоя старая мать Гертруда; и это я – твой отец Петере. Иди и живи здесь…»
Два месяца плыл Ольсен обратно на пароходе «Гедвей», затем прибыл домой и, походив день-два, лег. Но теперь свободно, устойчиво чувствовал он себя, был даже весел и, хотя речь свою часто прерывал мучительным кашлем, был совершенно уверен, что скоро выздоровеет. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад.
Он лежал, изредка рассказывая о жизни на пароходе, о чужих странах. Можно было и продолжать слушать его и уйти: так рассказывают о посещении музея. Но с увлечением, с страстью говорил он о том, как хотелось ему вернуться домой. Чем больше он вспоминал это, тем ярче и прочнее чувствовал себя здесь, дома, на старой кровати, под старыми кукующими часами.
Но бой часов этих начинал все чаще будить его ночью; жарче было дышать в бессонницу; сильнее болела грудь. В маете, в страхе, в угрызениях совести за то, что «не работник», прошла зима. Наконец, весной, стало ясно ему и всем, что конец близок.
Он наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, Ольсен попросился сесть у окна. Мерзнущий, весь в поту, с подушками под головой, Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха. Тоска, большая, чем в Преете, разрывала его. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка.
– …Дай!.. – кричала она, выговаривая нетвердо это универсальное слово карапузиков, но едва ли могла понять сама, чего именно хочет. «Дай! Дай!» – голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсинном масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других – и все, решительно все: – не это ли хотела она?! Перед ней стоял мир, а ее мать не могла уразуметь, что хочет ребенок, спрашивая с тревогой и смехом: «Чего же тебе? Чего?»
Умирающий человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные путы, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он – человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул в Преете.
– Мы все поедем туда, – сказал он. – Там – рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.
Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой – там.
Клубный арап>*
Некто Юнг, продав дом в Казани, переселился в Петроград. Он был холост. Скучая без знакомых в большом городе, Юнг первое время усиленно посещал театры, а потом, записавшись членом в игорный клуб «Общество престарелых мучеников», пристрастился к карточной игре и каждый день являлся в свой номер гостиницы лишь утром, не раньше семи.
Никогда еще азарт не развивался так сильно в Петрограде. К осени 1917 года в Петрограде образовалось свыше пятидесяти игорных притонов, носивших благозвучные, корректные наименования, как-то: «Собрание вдумчивых музыкантов», «Общество интеллигентных тружеников», «Отдых проплюйского района» и т. п. Кроме карточной игры, ничем не занимались в этих притонах. Каждый, кто хотел, мог прийти с улицы и за 10–15 рублей получить членский билет. Публика была самая сборная: чиновники, студенты, мародеры, мастеровые, торговцы, шулера, профессиональные игроки и невероятное количество солдат, располагавших подчас, неведомо откуда, довольно большими деньгами.
Когда Юнг начал играть, у него было около сорока тысяч, вырученных сверх закладной. Крайне нервный и жадный к впечатлениям, он отдавался игре всем существом, входя не только в волнующую остроту данных или же битых карт, но в весь строй игорной ночной жизни. Он настолько познал ее, что не отделял ее от игры; ее наглядность и размышления о ней как бы сдабривали сухое волнение азарта и часто сглаживали мучительность проигрыша, развлекая своей мошеннической, живой сущностью. Не будь этой игорной кулисы, играй Юнг в клубе старинном, чопорном, где «шокинг» не идет дальше пропавшего карточного долга, пули в лоб или же – верх несчастья – уличения опростоволосившегося элегантного шулера, Юнг, может быть, бросил бы скоро игру. Будучи чужим клубной публике, входя только в игру, с ее лицемерной церемонностью сдерживаемых хорошего тона ради страстей, он, быстро утомленный, пресытился бы однообразным прыганием очков в раскрываемых картах. А в «Обществе престарелых мучеников» его заражал азартом и удерживал именно этот густой, крепкий запах жадной безнравственности, нечто животное к деньгам, в силу чего они приобретали веский, жизненный вкус, разжигая аппетиты и делаясь оттого желанными, как голодному кушанье.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями – Лисс, Зурбаган, Гель-Гью – прекрасные девушки поджидают своих женихов. В этот мир – чуть приподнятый над нашим, одновременно фантастический и реальный, мы и приглашаем читателей.
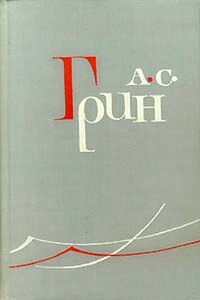
В марте 1915 года в маленьком бельгийском городке Сен-Жан, почти сплошь разрушенном немцами и почти совершенно опустевшем, появился путник. Он искал ночлег…

Двое молодых людей – он и она, сошли с парохода, потерпевшего крушение. Оба спешат в Зурбаган. (Она – к больному отцу. Он – бежал из тюрьмы, куда попал из-за любимой им женщины.) Они покупают одну лодку на двоих, и начинается психологический поединок сердец…© FantLab.ru.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
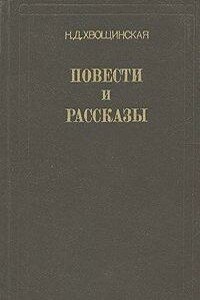
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Утро. Кабинет одного из петербургских адвокатов. Хозяин что-то пишет за письменным столом. В передней раздается звонок, и через несколько минут в дверях кабинета появляется, приглаживая рукою сильно напомаженные волосы, еще довольно молодой человек с русой бородкой клином, в длиннополом сюртуке и сапогах бурками…».

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
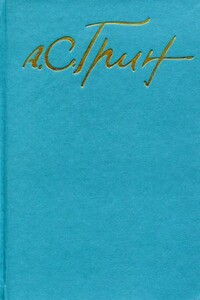
Во второй том Собрания сочинений Александра Степановича Грина (1880–1932) включены рассказы 1913–1916 гг., как широко известные, так и не имевшие до настоящего времени книжных публикаций.http://ruslit.traumlibrary.net.

В пятый том вошли последние романы А. С. Грина, опубликованные в 1928–1930 годах: «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда».http://ruslit.traumlibrary.net.

В четвертый том Собрания сочинений А. С. Грина вошли произведения крупной формы: феерия «Алые паруса», романы «Блистающий мир», «Золотая цепь», «Сокровище африканских гор», хорошо известные читателю. Впервые публикуется по автографу 1926 года «Мотылек медной иглы» – начало коллективного романа «Большие пожары», печатавшегося в «Огоньке» в 1927 году.http://ruslit.traumlibrary.net.
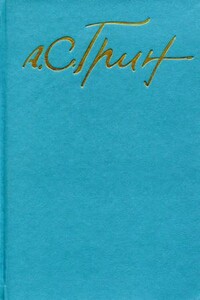
Собрание сочинений Александра Степановича Грина (1880–1932) открывают рассказы, написанные в 1906–1912 гг.Вступительная статья, составление В. Ковского.http://ruslit.traumlibrary.net.
