Том 3. Лица - [5]
Ответ:
– Да, я сам чувствую, что меняюсь.
Петербург – выметенный, опустелый; забитые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязаные свитера; и в свитере – Блок. Лихорадочная попытка перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания – из заседания в заседание.
И вот – поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний – в одной из маленьких задних комнат «Всемирной Литературы». Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей – теплая изразцовая лежанка и на лежанке, возле лежанки – Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я – и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.
Трудно починить водопровод, трудно построить дом – но очень легко – вавилонскую башню. И мы строили вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы российской – от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!
Мы, быть может чуть-чуть улыбаясь, – верили или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему – он и к этому подошел «по-настоящему».
В пестрой, переливающейся груде – надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранится составленный им список ста томов. И недаром в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов». Если вавилонская башня когда-нибудь будет построена – она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор.
В озябшем, голодном, тифозном Петербурге – была культурно-просветительная эпидемия. Литература – это не просвещение, и потому поэты и писатели – все стали лекторами. И была странная денежная единица паек, – приобретаемая путем обмена стихов и романов – на лекции.
Блоку в это время жилось трудно – он не способен был на этот обмен. Помню, он говорил:
– Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.
Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция исторических картин. Это была опять одна из вавилонских башен: в цикле исторических пьес – показать всю мировую историю – ни больше и ни меньше. Придумал это Горький и прикованные к столу заседаний все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я; из других – Щуко и Лаврентьев.
Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:
– Нельзя, чтоб искусство везло науку.
Но все-таки работал – как всегда «по-настоящему». Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.
Одно из первых заседаний – в величественном кожаном кабинете Театрального отдела (ПТО).
Блок читал свой сценарий исторической пьесы – не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековье Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.
Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока! «Когда же вы дадите, Александр Александрович?» И он отвечал:
– Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю, устраиваю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездили в Смольный с письмом от Горького. Завтра идти в районный отдел.
Или:
– Ну – пьеса! Вот я нынче все утро окна замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно идет, не умею…
И вот – квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.
– Вот еще не знаю, взять ли Куликовскую битву с татарами – мне это очень близко – или другое: Тристана и Изольду.
Говорил, что уж сделал какие-то наброски для «Тристана», и вдруг неожиданно – из египетской жизни: «Рам-зес» – едва ли не последняя, написанная им вещь.
Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзесе». Блок отшучивался:
– Да ведь я только переложил Масперо. Я тут ни при чем.
Секции был обещан свой театр. Но нечем топить – нет дров: наши пьесы передали в Народный дом, из Народного дома – в Василеостровский театр. «Рамзес» – в Василеостровском театре…
Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело:
– Пусть лучше не ставят.
И Секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская наша башня разваливалась.
Уже весной 21-го года – одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему – вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня – нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе – читается пьеса – и он заражает своим смехом.
Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока – молодым. И может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.
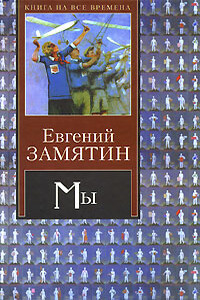
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
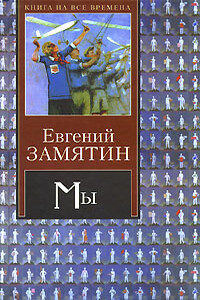
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
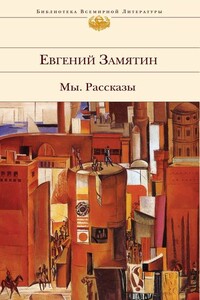
«…Которые мальчики очень умные – тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный – и подарили ему книжку: про марсиан.Лег Вовочка спать – куда там спать: ушки – горят, щечки – горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на землю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, так больше нельзя…».
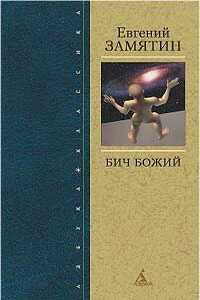
В своем историческом романе «Бич Божий» Евгений Замятин ярко, увлекательно описывает приключения юного Атиллы (V век), будущего легендарного предводителя гуннов и великого завоевателя, прозванного Бичем Божиим. Уже в детские годы, как Вы узнаете из книги, проявился его крутой нрав, несокрушимая воля и призвание властвовать.Мальчишкой оказавшись в Риме в качестве заложника, он вырвется из унизительного плена с твердых решением когда-нибудь вернуться сюда, но уже не одному, а с бесчисленным войском.
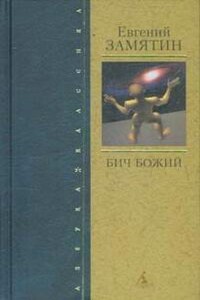
В настоящую книгу замечательного русского писателя Е.Замятина вошла повесть «Островитяне».После появления в печати ранних повестей Замятина о нем громко заговорила критика, ставя его имя в один ряд с Буниным, Пришвиным, Куприным. Реалистические образы ранних повестей Замятина поднимаются до символизма, до обобщений, за которыми ощущается вечное противоборство добра и зла.В своих произведениях, которые стали ярчайшим художественным документом времени, Замятин стремился к «настоящей правде», которая, по Достоевскому, «всегда неправдоподобна».

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Во второй том Собрания сочинений Е.И. Замятина включены все прозаические произведения писателя, созданные им на родине и за рубежом после 1921 года, в том числе знаменитая антиутопия «Мы». Исторический роман «Бич Божий» впервые печатается с учетом авторских исправлений в рукописи. Впервые в России публикуются биографические очерки «Роберт Майер» и «А.П. Чехов», выходившие в Германии в 1921 г.http://ruslit.traumlibrary.net.

В первый том первого посмертного наиболее полного Собрания сочинений, издаваемого на родине писателя, входят произведения классика русской литературы XX века Евгения Ивановича Замятина (1884–1937), созданные им за первые пятнадцать лет творческой работы. Наряду с широко известными повестями и рассказами («Уездное», «На куличках», «Островитяне») в том включены ранее не печатавшиеся на родине произведения («Полуденница», «Колумб» и др.).http://ruslit.traumlibrary.net.

В настоящий том Собрания сочинений Е. И. Замятина включены его киносценарии, произведения о театре и кино, публицистические и литературно-критические статьи. Многие работы публикуются впервые.http://ruslit.traumlibrary.net.