Том 2. Въезд в Париж - [5]
Так вот, про старуху… А про себя лучше не ворошить.
Из Волокуш она, Любимовского уезда, за Костромой… а я-то ярославский, будто и земляки. Да в каждой губернии таких старух найдется. Ну, от войны да смуты ей, пожалуй что, всех тяжелей досталось. Махонькая была, сухенькая, а одна ломила – и по дому, и в поле. Легкая была на ногу, кость да жилка, и годов уж за шестьдесят. Невестка неделями от спины валялась, трое ребятишек, мелочь, – все на одной старухе. И характером настойчивая была, сурьезная. Сын, Никешка, спьяну побьет когда… – да чтобы она соседям!.. Поплачет перед печкой с чугунками – слезой-то и вытекет. И жену-то он доконал, побил шибко на масленой, у кума из-за блинов скандал затеял да в полынью с санями и угодил… привез полумертвую – на въезде и бросил, в казенку занадобилось. Калекой с того и стала.
Как старуху-то я за Тамбовом встретил – совсем уж и не узнать, шибко заслабела, и в голове уж непорядки, от расстройки. Да и все… – спокою ни у кого нет. Про себя скажу: во скольких уж я делах кружился и все в голове, бывало, держу… а с семнадцатого года стал путать. А как два раза пистолет приставляли, и гнездо все наше!.. Ну, сурьезная была старуха, горбом возила. К господам Смирновым на поденщину бегала полы помыть, пополоть, на сенокос там… У господ Смирновых делянки снимал я прежде… – имение какое было, сколько народу от них кормилось!.. – ну, деревню ее хорошо знаю, Волокуши, – округ по лесам работали. И на маслобойку гоняла, посуду мыть, – там ей снятым молочком платили, а она творожком внучат питала, – и грибы грибникам сушила, и на патошном картошку корзинами таскала, а ей патокой выплачивали… И патошников хорошо знал, Сараевых, царство небесное… – товар у них брал, глюкозу, в Иваново на красильни ставил… Как все налажено-то было, спокон веку!.. Ну, сказать, неправда была… а все будто и утряхивалось, коромысло-то ходило, и у каждого надежда – Господь сыщет… Ну, а где правда-то настоящая, в каких государствах, я вас спрошу?! Не в законе правда, а в человеке. Теперь вот правда!..
При сыне волом работала, а как Никешку на войну забрали, все на нее и свалилось. Сумела обернуться, паек солдатский исхлопотала, надел сдала, огород да покос оставила, лошадку удержала – картошку на патошный возить. И еще туфли, чуни, плела на лазареты. Эти чуни, скажу вам, по тем местам я распространил, со Звенигородского уезду, – многие кормиться стали, поправились. Ну, и она плела, по ночам, глаза продавала. А сын раз всего только и написал, как в госпитале лежал, – сулился домой с гостинцами. Свое помню: мои двое… прапорщики были, скорого обучения… – месяц, бывало, письма не получаешь и то надумаешься!.. А жили мы в достатке, и домик в Ярославле, и в Череповце мучное дело налажено, – и то какое беспокойство! А тут одна старуха, за все про все. Так и не показался. Справки ей Смирновы наводили, – ответили так, что в плену. А потом товарищ его в дом писал, что убит в бою, – через год уже. Ну, поплакала – и опять, крутись…
А тут и пошло самое-то крутило, смута… Господ Смирновых описали в комитет, выдали старухе пять пудов ржи, да хомут еще, да зеркало. Просила корову, на сирот, а ей – телка! Понятно, ей обидно, плакалась: «Куды мне хомут, у меня свой хомут!..»
«А ты не заимствуй, – говорят, – мы тебе зеркало какое дали, всего увидишь!»
Вот и поговори. А чего старуха может!
«У меня, – говорит, – кормильца убили…»
«Ну что ж, что убили… такую уж присягу принимал!..»
Все и разговоры.
А как стали тащить-то, комбедные-то эти как пошли вертеть, – опять старуху отшили: пожаловали ведерко патки, с сараевского заводу, да овцу. А на патошном восемнадцать коров было, глядеть страшно! Слышит старуха – бабенке одной пегую определили, а бабенка молодая, вдовая, без детей, с Ленькой она гуляла, с куманистом главным… Старик один так их величал, очень значительно! Кума-нисты… Ну, понятно, обидно: гулящей кобыле корову дали, а на сирот – овцу! Вот и пошла старуха к Леньке Астапову. Рассукин-то сукин был!.. Я его самолично за виски трепал, как он у меня струмент унес, – лес мы тогда сводили. Знала, понятно, и старуха, какой сукин сын-вор был, и мужики сколько его лупили… ну, а все, думается, совести-то, может, у него осталось… А дело такое было… это тоже знать нужно.
С войны он загодя еще сбег и у смирновского лесника укрывался… – он потом того лесника на расстрел присудил, в город угнали, что уж там – неизвестно. Будто народный лес продавал! Во какой, су-кин сын! Ходила старуха по грибы да на Леньку в чащах и напоролась!.. Заяви она кому следует – сейчас бы его полевым судом, как дизелтир!.. Ну, он ее, конечно, застращал: спалю! Да еще магарычу с нее затребовал, – махорки да самогону принеси, а то обязательно спалю! Въелся в ее, как клещ! Ну, напугалась, доставила ему, глупая… а он будто еще и нехорошо с ней сделал… В лесу чего кто увидит! А лесник-то про все его подвиги потом рассказывал. Во какой, су-кин сын!..
Ну, пошла она к Леньке… – а уж он так тогда поднялся – шапку, смотри, держи! Все полномочии ему, коту, от ихней власти, сам все делил-теребил по именьям да заводам и всякие пустые слова умел, без пути городит… Такого-то образования в остроге сколько угодно, – дери-крой! Ну, приходит к нему в волость, в победный их комитет… – а прозывается бе-дный! – про обиду свою уж и не вспоминает, – нужда-то уж все стирает, – в ноги им повалилась: «Призрите на сироток… ваше благородие!»
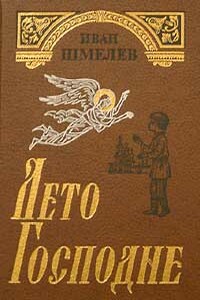
«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.«Лето Господне» (1927–1948) является самым известным произведением автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. (YMCA-PRESS). Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».
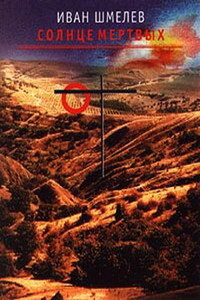
Эпопея «Солнце мертвых» — безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей ХХ века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию «Солнца мертвых», письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних «горячих точках», эпопея «Солнце мертвых», к сожалению, опять актуальна.Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:«Читайте, если у вас хватит смелости:».
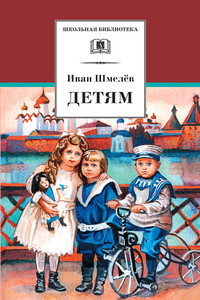
В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним.Для среднего школьного возраста.
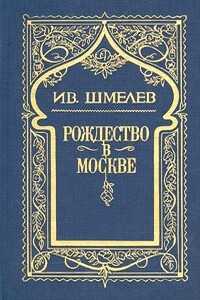
Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.Иллюстрации Т.В. Прибыловской.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
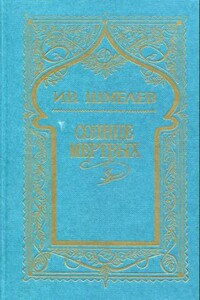
Первый том настоящего собрания сочинений И. С. Шмелева (1871–1950) посвящен в основном дореволюционному творчеству писателя. В него вошли повести «Человек из ресторана», «Росстани», «Неупиваемая Чаша», рассказы, а также первая вещь, написанная Шмелевым в эмиграции, – эпопея «Солнце мертвых».http://ruslit.traumlibrary.net.
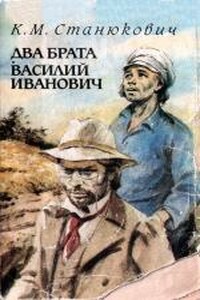
Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.
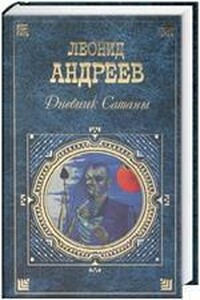
Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.
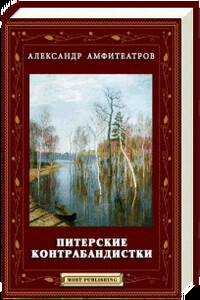
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).
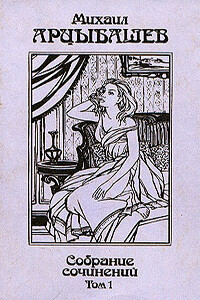
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
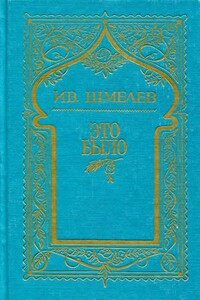
В 7-й (дополнительный) том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли произведения, в большинстве своем написанные в эмиграции. Это вещи малознакомые, а то и просто неизвестные российскому читателю, публиковавшиеся в зарубежных изданиях.http://ruslit.traumlibrary.net.
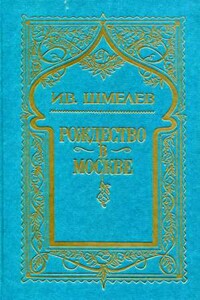
В третий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошел роман «Няня из Москвы», а также рассказы 1930-1940-х годов, взятые из посмертного сборника писателя «Свет вечный» (Париж, 1968).Иллюстрации Т. В. Прибыловской.http://ruslit.traumlibrary.net.
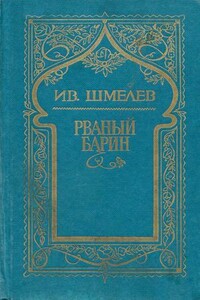
8-й (дополнительный) том Собрания сочинений И. С. Шмелева составили ранние произведения писателя. Помимо великолепных рассказов и очерков, читатель познакомится также со сказками, принадлежащими перу Ивана Сергеевича, – «Степное чудо», «Всемога», «Инородное тело» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.
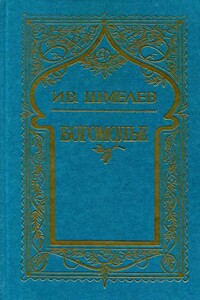
В настоящий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли романы «Лето Господне» и «Богомолье», а также произведения, продолжающие и развивающие тему «утраченной России» – основную тему эмигрантского периода творчества писателя.http://ruslit.traumlibrary.net.