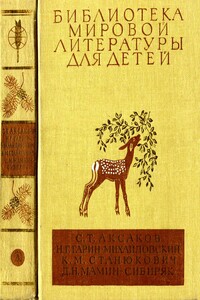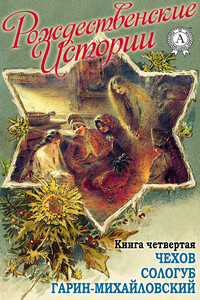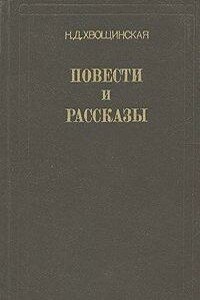Слезы текли по ее лицу, и она шептала:
— Я такая была несчастная… вся жизнь моя так тяжело складывалась… И так счастлива теперь…
Она не могла сдержать рыданий, а Карташев поцелуями осушал ее слезы. Она смеялась и продолжала опять плакать, тихо повторяя:
— Теперь я плачу уже от счастья…
Она заговорила спокойнее…
— Я росла очень болезненным ребенком. Несколько раз я была так больна, что думали, что я не выживу. Мать моя рано умерла, мне было всего три года… Отец женился на другой… Отец любил нас, но мачеха… — Она с усилием докончила: — Не любила никогда… Мы всегда росли с гувернанткой внизу и приходили наверх только к обеду… Мачеха меня считала особенно капризной… В десять лет меня уже увезли за границу в пансион, и я там семь лет пробыла… Каждый год отец с мачехой приезжали к нам на несколько дней, но никогда без мачехи мы с отцом не провели ни одной минуты… Она очень любит отца и боится, что он уделит хоть что-нибудь нам…
Она радостно посмотрела в глаза Карташеву:
— Теперь мне и не надо никого!
Карташеву было так жаль, так чувствовал он теперь ее в своем сердце, он обнимал и целовал ее и говорил ей, что будет счастлив, если заменит ей и мужа, и друга, и отца, и мать.
Надо было ехать домой, но Аделаида Борисовна хотела немного еще подождать, чтоб просохли ее глаза, и Карташев начал рассказывать ей из своих воспоминаний, связанных с кладбищем.
— Вот эта дорожка, — говорил он, — ведет прямо к стене, отделяющей кладбище от нашего дома.
— Это далеко отсюда?
— Нет, близко.
— Можно пойти посмотреть?
Радостный и счастливый Карташев повел ее по дорожке, по которой много лет назад так часто бродил. И так живо вставали в памяти друзья детства: Яшка, Гаранька, Колька. Вечно все такими же, как были, запечатлелись они и, казалось, вот-вот выскочат из-за какого-нибудь памятника, вот-вот опять услышит он их звонкие, возбужденные голоса, и опять будет двоиться он между желаньем быть и никогда не расставаться с ними и страхом, что назначенный срок прошел, и давно уже ждет его мать для того, чтоб заниматься, для того, чтоб играл он с сестрами, был дома и делал все то дело, к которому не лежала душа, которое не имело ничего общего с его друзьями и их жизнью.
— Вот и стена! — сказал Карташев.
Темно-серая, старая, из известкового камня стена была перед ними, с рядами едва заметных могильных бугорков, с деревянными, кое-где сохранившимися крестами.
Мертвая тишина царила кругом, из знакомой щели между камнями по-прежнему озабоченно выглядывал из своего гнезда воробей, присела на мгновенье у другой щели ласточка, озабоченно и без толку ползет вверх по стене толстый жук и, робко прижавшись к самой стенке, растут всё те же цветы: васильки, ромашка застилает своими круглыми листочками землю, а там голый, треснувший бугорок и под ним, наверно, шампиньон. Карташев нагнулся и привычной рукой вырыл целое гнездо шампиньонов.
— А вот еще!
И они быстро набрали два полных платка.
— Помню, какой в детстве высокой казалась мне эта стена. Вот в этом месте мы всегда через нее перелезали.
— Как интересно было бы посмотреть на ваш дом!
— Если хочешь, полезем на стену.
— Не страшно?
— Ну! вот по этим дыркам, как по лестнице, я полезу вперед и подам руку.
Карташев влез на стену, лег на нее и спустил руку.
Аделаида Борисовна добралась до его руки и дальше уже о его помощью взобралась на стену.
Во всей ее фигуре были и страх не упасть, и желание поскорее все увидеть. Пригнувшись, она смотрела, а Карташев, держа ее одной рукой, другой показывал ей сад, дом, сарай, горку и объяснял.
— Хотите, прыгнем в сад?
— Ой?
— Я обниму тебя, и мы сразу прыгнем, и таким образом, поддерживая тебя, я смягчу твое падение.
Аделаида Борисовна весело и нерешительно смотрела вниз.
— Только сразу надо: когда я скажу три — прыгать! Ну, раз, два, три…
Карташев прыгнул, а Аделаида Борисовна еще не собралась, и он потянул ее, и оба, потеряв равновесие, упали на землю. Оба испачкались, Аделаида Борисовна ушибла руку, бок и до крови оцарапала щеку. И вытереть кровь нечем было, так как платки с грибами остались на той стороне.
Карташев был очень сконфужен, извинялся, а Аделаида Борисовна, подавляя боль, улыбалась и ласково говорила:
— Ничего, ничего…
— Я сейчас принесу платки.
Карташев взлез опять на стену, прыгнул, взял платки и возвратился назад.
Перед смущенной Аделаидой Борисовной стоял высокий Еремей и тоже, мигая своим одним глазом, смущенно смотрел на нее.
— Это Еремей, — объяснил ей Карташев, — это моя невеста, Еремей.
Еремей радостно открыл рот и начал усиленнее кланяться, приговаривая:
— Ну, дай же, боже, дай, боже…
— Дай, боже, — помог ему Карташев, — що нам гоже, що не гоже, того не дай, боже…
Аделаида Борисовна кончиком платка, жалея грибы, вытирала кровь, а Карташев говорил Еремею:
— Вот, Еремей, как я угостил свою невесту.
— И чем то могло так оцарапнуть? — качал головой Еремей. — Та чему ж вы не гикнули, я бы лестницу приволок бы.
— Вот это верно! Пожалуйста, пока мы пойдем в дом, принесите лестницу.
Кровь перестала идти, но царапина была во всю щеку.
Скоро и Аделаида Борисовна и Карташев забыли о своем падении, отдавшись осмотру дома и рассказам.