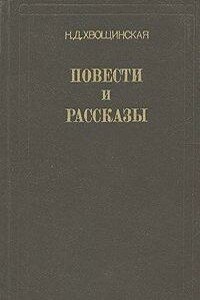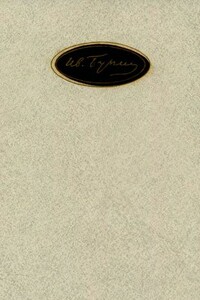Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная, вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было.
Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую, свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.
— Тату! — сказала она мужику, обращая его внимание на меня.
Он остановился.
— Эта дорога на Святые Горы? — спросил я.
— А куды вам треба?
— В монастырь.
— Якiй монастырь?
— Да вы разве никогда не были на Святых Горах?
— В якономii?
— Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.
— У церквi? Та у нас своя церква на селi.
— А в монастыре?
— Та був, ще хлопцем. Тодi чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От i ходили yci, у кого скотина болiла; звiсно, молебствiе служили i в село привозили того iнока. Ну, походив вiн по дворах, покропив водою, а про те нiчого не помоглось.
— Так это дорога туда?
— Эге ж…
И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.
Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.
Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой, — Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно… Потом я обгонял идущий на богомолье народ — женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому… Откуда она и что она значит?
Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.
Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотистые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы — все скученное, картинно сокращенное отдалением, — и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним…
II
Донец под Святыми Горами быстр и узок. Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полугоре, белея в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом перевале, рисуется в небе другая.
С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью — от этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой и ветхой ступеньки. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников…
Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный гребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на божий день, на дневную работу, и опять коротко и тихо было в его сердце…