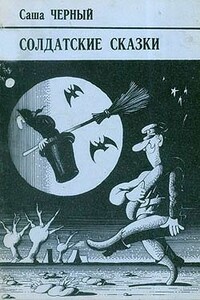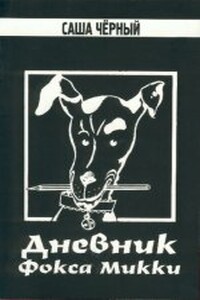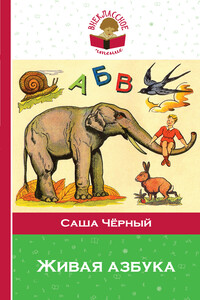«Куда ж нам плыть?» — над этим мучительным вопросом бились лучшие умы зарубежья. Ответы были разные. Так И. А. Бунин с непререкаемостью библейского пророка провозглашал: «Мы, как Ивиковы журавли, разлетелись по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против русских убийц, и у каждого из нас за пазухой гвоздь для советского гроба». Другие видели миссию русской эмиграции в сохранении духовных родников и национальных святынь, повторяя как девиз: «Мы не в изгнании, мы в послании». Ну а что оставалось безъязыковой эмигрантской массе, простым бедолагам — доживать свои скудные дни в борьбе за существование и сгинуть без следа в чужой земле? А может — чего уж там! — постараться поскорей отрешиться от прошлого, приспособиться к новым условиям, европеизироваться или американизироваться, найти свою житейскую нишу? Правота есть в каждом из этих путей. Да и возможен ли, право, однозначный ответ?
Но все же что объединяло это множество человеческих одиночеств, заброшенных волей судеб к черту на кулички? Ужели только борьба за выживание заставляла их держаться сообща? Должно быть, ближе других к уразумению смысла русской эмиграции подошел В. Набоков, сформулировав идеалы, под знаком которых жили изгнанные из России, так: презрение, верность и свобода. Это то, что укрепляло дух и жизнеспособность русского человека на чужбине. Если мы сегодня в отечестве своем, имея крышу над головой, с опаской вглядываемся в завтрашний день, то каково было им — без собственного крова, без средств к существованию, без гражданских прав, без знания языка, без навыков к какому-либо ремеслу, ибо в большинстве своем это были люди умственного труда. И тем не менее, они — герои Саши Черного, оказавшиеся на чужбине, — несмотря ни на что сохранили лучшие качества, которые отличали интеллигенцию, — нравственную чистоплотность, добропорядочность, совестливость, готовность искупить свои убеждения собственной судьбой.
Стоп! Помнится, в дореволюционных сатирах Саши Черного интеллигент был представлен в иных красках: «худосочный, жиденький и гадкий», «разрешитель проблем мировых»… Но противоречия здесь нет. Надо отличать зло в чистом виде (пошлость, глупость, хамство), которое Саша Черный именовал человеческим бурьяном, рухлядью людской, от недостатков обычного, среднего человека, который «то змей, то голубь — как повернуть». Если по молодости лет поэт-сатирик пытался «повернуть» — исправить нравы, выставляя пороки в кривом зеркале смеха, то испытания и опыт прожитых лет утвердили его в другой истинности: «мудрость жалости порой глубже мудрости гнева». Надо вовсе не изничтожать сатирой «малых сих», придавленных грузом забот и горестей, а помочь им.
Саша Черный не только уверовал в «мудрость жалости» как в некий общий жизненный принцип, но и следовал ему сугубо утилитарно. Надо помочь! Таков смысл многих его стихотворений, призывающих сделать пожертвования на детский приют или приглашающих соотечественников на писательский бал в пользу нуждающихся. Движимый чувством сострадания и любви, поэт никогда не отказывался от практической помощи всем страждущим. Об этом прекрасно сказал М. А. Осоргин: «Всегда, когда бывали сборы на бедных-безработных, на детей или благотворительные вечера, — в числе первых с воззванием выступал А. Черный, участвовал в организации разных такого рода дел и на эстраде выступал не раз. И по личной доброте, и по личному пониманию, что такое нужда, и, конечно, ради единственного радостного удовлетворения, — что вот можно, ничего как будто не имея, дать больше, чем дает имеющий».
Ясно, что этим стихотворным однодневкам, имеющим чисто прикладной характер, суждено было кануть в Лету. Сколько времени и сил поэта ушло на эту черновую работу в ущерб свободному вдохновению! Но недаром любители поэзии втайне уверены, что поэт и в жизни должен походить на свои стихи. Саша Черный, всем своим творчеством исповедующий любовь и добро, не мог быть иным в реальной жизни, в своей земной юдоли.
Думается мне, что подавляющая часть созданного поэтом за годы изгнания носит подвижнический характер. Перед ним, как и перед большинством его собратьев по перу, оказавшихся за границей, возник вопрос: о чем писать и во имя чего? Абстрагироваться ли от горестной и темной действительности, от трагедии русского бездорожья и направить свою творческую фантазию в бесконечность пространств и времен? Избравших эту стезю было немало.
Выбор Саши Черного содержится в его же вопросе, заданном им в одном из писем: «О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции?» Неспроста из всего пантеона отечественной литературы выбран Чехов — писатель, повествовавший о повседневности, об обычной людской мелкоте, обо всех сирых и обездоленных, бредущих во мраке безысходности. Однако, следуя его заветам, надо было не упиваться общей бедой, а, напротив, постараться поднять дух читателя, заставить его улыбнуться, обнаружив в самой безвыходной ситуации комическое. Безоглядного веселья, конечно, ждать не приходится. В любой усмешке позднего Саши Черного слышатся меланхолические, даже щемящие нотки. Почему?