Том 1 - [4]
— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.
Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.
— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей…
На него кинулись, сбили с ног.
— Он кусается, — крикнул кто-то.
С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.
— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка.
В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.
Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.
1956
Ночью
Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.
Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.
— Пора, — сказал Багрецов.
Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.
— Далеко еще? — спросил он шепотом.
— Далеко, — негромко ответил Багрецов.
Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.
— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля…
Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился.
— Надо лечь, увидят.
Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.
Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.
— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.
— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.
Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.
Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое. возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.
— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.
— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов.
И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.
— Есть, — сказал Багрецов.
Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, — в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.
— Молодой совсем, — сказал Багрецов.
Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.
— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.
— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.
Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.
— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.
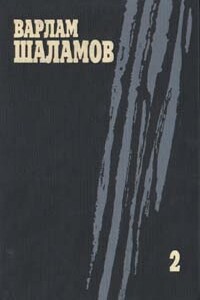
Во второй том Собрания сочинений В. Т. Шаламова вошли рассказы и очерки из сборников «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2», а также пьеса «Анна Ивановна».

В четвертый том Собрания сочинений В. Т. Шаламова вошли автобиографическая повесть о детстве и юности «Четвертая Вологда», антироман «Вишера» о его первом лагерном сроке, эссе о стихах и прозе, а также письма к Б. Л. Пастернаку и А. И. Солженицыну.
