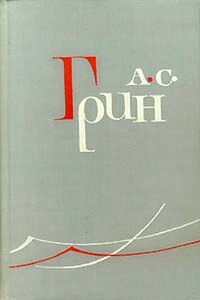· · ·
Философствуй тут как знаешь
Иль как хочешь рассуждай,
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!
Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее…»
Жутко читать эти строки. Но так было…
Грина потрясала чеховская «Моя жизнь» со все решительно объясняющим ему подзаголовком «Рассказ провинциала». Грин считал, что этот рассказ лучше всего передает атмосферу провинциального быта 90-х годов, быта глухого города. «Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке», — говорил писатель. Многое из биографии провинциала Мисаила Полознева, вознамерившегося жить «не так, как все», было уже ведомо, было выстрадано Грином. И в этом нет ничего удивительного. Чехов запечатлел приметы эпохи, а юноша Гриневский был ее сыном. Интересно в этом отношении признание писателя о своих ранних литературных опытах.
«Иногда я писал стихи и посылал их в „Ниву“, „Родину“, никогда не получая ответа от редакций, — рассказывал Грин. — Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве, — точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик…»
Можно вполне поверить, что юный поэт писал стихи, отталкиваясь более всего от стихов же, невольно подражая тому, что обычно печаталось. Однако и жизненная обстановка, его окружавшая, тоже была типично «чеховская», рано старящая душу. В удушливой пустоте и немоте вятского быта легко рождались стихи о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве.
Юноша искал спасения в другой, «томительно желанной им действительности»: в книгах, лесной охоте. С отроческих лет он знал уже не только Фенимора Купера, Майн Рида, Густава Эмара и Луи Жаколио, но и всех русских классиков. Увлекался романами Виктора Гюго и Диккенса, стихами и новеллами Эдгара По, читал научные книги. Но что более всего манило мальчика, о чем он мечтал упорно и страстно, — так это море, «живописный труд мореплаванья». Кто скажет, как зарождались эти грезы о вольном ветре, о синих просторах и белых парусах в душе мальчугана, взраставшего в сухопутной глухой Вятке, откуда, как говорится, хоть три года скачи, ни до какого моря не доскачешь? Легко догадаться, что свою роль тут сыграли книги Жюля Верна, Стивенсона, морские рассказы Станюковича, как раз тогда печатавшиеся в газетах и журналах. Впрочем, вот другой пример. Новиков-Прибой, как известно, родился и рос тоже не у моря, а в медвежьем углу Тамбовщины, где чуть ли не единственной книгой был псалтырь. Но о море, морской службе мальчик Новиков мечтал столь же страстно и целеустремленно. И в конце концов он добился своего: пошел не в монастырские служки, как того желали родители, а на флот.
Книги книгами, но юные сердца часто поворачивает сама жизнь, сила живого примера. Судьбу будущего автора «Соленой купели» и «Цусимы» повернул тот веселый, ни бога, ни черта не боящийся матрос, что однажды встретился деревенскому мальчишке на лесной тамбовской дороге. Новиков-Прибой описал этот случай в автобиографическом рассказе, который так и назван — «Судьба».
Судьбу Грина поворачивали не только книги. Во «флотчиках», изредка появлявшихся в городе, вятские обыватели видели опасных смутьянов, нарушителей спокойствия. Именно это и тянуло к ним романтически настроенного юношу. Уже в самой невиданно белоснежной форме, в бескозырке с лентами, в полосатой тельняшке чудился ему вызов всему сонному, неподвижному, заскорузлому, «вятскому». Грин рассказывает в автобиографии, что, увидев впервые на вятской пристани двух настоящих матросов, штурманских учеников — на ленте у одного было написано «Очаков», на ленте у другого — «Севастополь», — он остановился и смотрел как зачарованный на гостей из иного, таинственного и прекрасного мира. «Я не завидовал, — пишет Грин. — Я испытывал восхищение и тоску».
Летом 1896 года, тотчас же после окончания городского училища, Грин уехал в Одессу, захватив с собой лишь ивовую корзинку со сменой белья да акварельные краски, полагая, что рисовать он будет «где-нибудь в Индии, на берегах Ганга…» Весьма показательная для характера Грина деталь! Рассказав в своей «Автобиографической повести» про то, как он, забывая обо всем на свете, упивался книгами, героической многокрасочной жизнью в тропических странах, писатель иронически добавляет: «Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать места матроса на пароходе». Мальчик из Вятки, отправляющийся на берега Ганга в болотных сапогах до бедер и соломенной «поповской» шляпе, с базарной кошелкой и набором акварельных красок под мышкой, — и в самом деле представлял собою фигуру живописную. Познания, почерпнутые из книг, причудливо переплетались в его юной голове с самыми странными «вятскими» представлениями о действительности. Он был уверен, например, в том, что ступеньки железнодорожного вагона предназначены для того, чтобы поезд на них, как на полозьях, ходил по снегу; паровоз, который он впервые увидел во время своего путешествия в Одессу, показался ему маленьким, невзрачным, — он представлял его с колокольню высотой. Жизнь надо было познавать как бы заново. И тяжки были ее уроки.