Том 1. Повести и рассказы 1879-1888 - [43]
Что же это за прав-закон, за который Яшка принимал свое страстотерпство?
Привелось мне как-то писать официальное заявление, для чего я был вызван в тюремную контору. Меня посадили за стол, дали бумагу, перо и предоставили сочинять мое заявление под шум обычных конторских занятий. В это время принимали новую партию. Письмоводитель выкликал по списку арестантов и опрашивал их звание, лета, судимость и так далее. Смотритель сидел тут же и рассеянно посматривал на принимаемых. Во всем этом было мало интересного для его благородия; для меня — тем более, поэтому я сочинял свое заявление, не обращая внимания на происходившее.
Но вот монотонный разговор стал оживленнее. Я поднял глаза и увидел следующую картину.
Перед столом стоял человек небольшого роста в сером арестантском халате. Наружность его не отличалась ничем особенным. Казалось, он принадлежал к мелкому мещанству, к тому его слою, который сливается в маленьких городах и пригородах с серым крестьянским людом. Вид он имел равнодушный, пожалуй, можно бы сказать — апатичный, если бы порой по лицу его не пробегала чуть заметная саркастическая улыбка, а в глазах не вспыхивал огонек какого-то сознательного превосходства или торжества. Но эти проблески были едва уловимы; они пробегали, на мгновение оживляя неподвижные черты, на которых тотчас опять водворялось выражение вялости. В передней толпились арестанты. Видимо заинтересованные ходом опроса, они тянулись друг из-за друга, вытягивая шеи и следя за разговором сотоварища с начальством.
— Ты что ж не говоришь? — кипятился письмоводитель. — Что молчишь? Ты ведь мещанин из Камышина? Ведь тут, в твоем статейном списке, написано ясно. Вот!
Письмоводитель ткнул пальцем в лежавшую перед ним бумагу и поднес ее к носу арестанта. Тот презрительно отвернулся, и огонек в его глазах вспыхнул сильнее.
— И ладно, коли написано, — произнес он спокойно.
— Да ты должен отвечать. Веры какой?
— Никакой.
Смотритель быстро повернулся к говорившему и посмотрел на него выразительным, долгим взглядом. Арестант выдержал этот взгляд с тем же видом вялого равнодушия.
— Как никакой? В бога веруешь?
— Где он, какой бог?.. Ты, что ли, его видел?..
— Как ты смеешь так отвечать? — набросился смотритель. — Я тебя, сукина сына, сгною!.. Мерзавец ты этакой!
Мещанин из Камышина слегка пожал плечами.
— Что ж, — сказал он. — Было бы за что гноить-то. Я прямо говорю… За то и сужден.
— Врешь, мерзавец, наверное, за убийство сужден. Хороша небось птица!
Мещанин из Камышина сделал было движение, как будто хотел возражать, но через мгновение опять повел плечами…
— Там судите, за что сами знаете.
— Какой твой родной язык? — продолжает письмоводитель опрос по рубрикам.
— Что еще? — спрашивает опять мещанин с пренебрежением. — Какой еще родной?.. Не знаю я…
— Ах ты подлец! Ведь не по-немецки же ты говоришь. По-русски, чай?
— Слышите сами, по-каковски я говорю.
— Слышим-то мы слышим, да мало этого. Пойми ты, анафема! Надо знать: русский ты или чуваш, мордва какая-нибудь? Понял?
— Чего понимать?.. Не знаю, — решительно отрезал мещанин из Камышина.
Письмоводитель убедился, что с камышинским мещанином ничего не поделаешь, и камышинскии мещанин был отпущен. При этом смотритель сделал многозначительное обещание:
— Погоди, — сказал он, провожая атеиста своим тюремным взглядом. — Мы еще с тобой, дружок, потолкуем на досуге. Авось разговоришься.
От этих слов мне вчуже стало жутко. Арестант только пожал плечами…
Когда я дописал свою бумагу и вышел из конторы, опрос партии еще не был окончен, и в передней толпились арестанты. Они кучкой обступили камышинского мещанина, который стоял среди них с тем же видом вялого равнодушия, хотя, очевидно, находился в положении героя минуты.
— Как же это, чудак! — говорил какой-то рыжеватый философ, с тузом на спине, — пра-а, чудак! Ведь ежели сказываешь, к примеру: «бога нет», так что же есть, по-твоему? А?
— Ничего! — отрезал тот коротко и ясно.
«Ничего!»
Выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослан, готовится принять неведомую меру мучений из-за… ничего! Казалось бы, к тому, что характеризуется этим словом «ничего», можно относиться лишь безразлично. Между тем камышинский мещанин относится к нему страстно, он является подвижником чистого отрицания, бесстрашно исповедуя свое «ничего» перед врагами этого учения.
Яшка начертал на своем знамени другую формулу: «За Бога, за великого Государя!..» Он был сектант, приверженец старого прав-закону, но когда я, вернувшись из конторы, проходил мимо его двери, невольная мысль поразила мое воображение: как много общего между этими двумя исповедниками! Яшка порвал свои связи с родиной, с семьей, с родной деревней. Камышинский мещанин сделал то же и даже словом не хочет признать эту связь, когда она ясно установлена на бумаге. «Я вам не подвержен», — говорит Яшка. Камышинский мещанин тоже, очевидно, не признает власти, которой он обязан повиновением. «Нет моего преступления ни в чем, — говорит Яшка, — а и было преступление, так не вам судить — Богу». «Судите, за что знаете», говорит камышинский мещанин, не желая даже косвенно принять участия в процессе этого суждения. Но в то время как камышинский мещанин скептически вопрошает: «Какой бог и кто его видел?» — Яшка производит неуклонное стучание во имя господне.
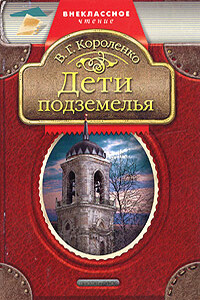
В своей повести «Дети подземелья» известный русский писатель В.Г.Короленко (1853-1921) затрагивает вечные темы дружбы, любви, добра, заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой жизни, полной лишений.Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
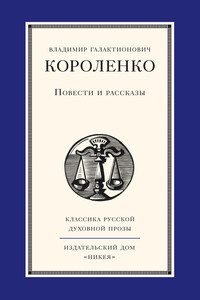
В. Г. Короленко – известный русский писатель, публицист и общественный деятель – в своих литературных произведениях глубоко исследовал человеческую душу. Понятие справедливости было главным для писателя, и его жизненная дорога стала путем правдоискателя и миротворца, который не закрывает глаза перед чужим горем. Все его герои – крестьяне или дворяне, паломники или бродяги, заключенные или их надзиратели – ищут справедливости, преодолевают себя, борются со слабостями, греховным унынием и эгоизмом («Слепой музыкант»), пытаются выжить в тяжелых условиях среди чужих им людей («Сон Макара»)

Рассказ написан в 1894–1895 годах, напечатан в первых четырех книгах журнала «Русское богатство» за 1895 год. Для первого отдельного издания, вышедшего в 1902 году, Короленко подверг рассказ значительной переработке: был дописан ряд эпизодов, введены новые персонажи, в том числе Нилов, осуществлена большая стилистическая правка; объем произведения увеличился почти вдвое. Материалом для рассказа послужили впечатления и наблюдения писателя, связанные с его поездкой летом 1893 года в Америку, на всемирную выставку в Чикаго.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

В том включены рассказы 1889–1903 годов: «Тени», «Река играет», «Ат-Даван», «Без языка», «Художник Алымов», «Не страшное» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.http://ruslit.traumlibrary.net.
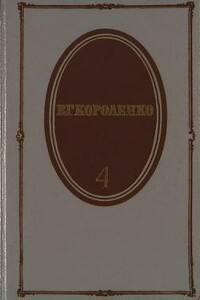
В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853–1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя.http://ruslit.traumlibrary.net.